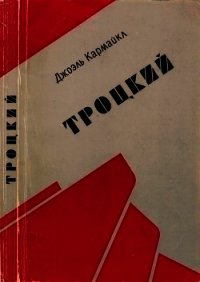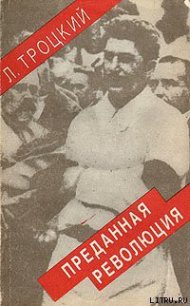Портреты революционеров - Троцкий Лев Давидович (прочитать книгу TXT) 📗
Три письма Троцкого Бухарину
I К вопросу о «самокритике» Совершенно лично
Николай Иванович!
Я Вам благодарен за записку, так как она дает возможность – после большого перерыва – обменяться мнениями по самым острым вопросам партийной жизни. А так как волей судеб и партсъезда мы работаем с Вами в одном и том же Политбюро, то добросовестная попытка такого товарищеского объяснения, во всяком случае, не может принести вреда.
Каменев попрекнул Вас на заседании тем, что раньше Вы были против мер чрезвычайного аппаратного нажима в отношении «оппозиции» (очевидно, он намекал на 23-24-е годы), а теперь поддерживаете самые крутые меры в отношении Ленинграда. Я сказал, в сущности, про себя: «Вошел во вкус». Придравшись к этому замечанию, Вы пишете: «Вы думаете, что я „вошел во вкус“, а меня от этого „вкуса“ трясет с ног до головы». Я вовсе не хотел сказать своим случайно вырвавшимся замечанием, что Вы находите удовольствие в крайних мерах аппаратной репрессии. Мысль моя была скорее та, что Вы сжились с этими мерами, привыкли к ним и не склонны замечать, какое впечатление и влияние они производят за пределами руководящих элементов аппарата.
Вы обвиняете меня в Вашей записочке в том, что я «из-за формальных соображений демократии» не хочу видеть действительного положения вещей. В чем же Вы сами видите действительное положение вещей? Вы пишете: «1) ленинградский „аппарат“ насандален до мозга костей; верхушка спаяна всем, вплоть до быта, сидит 8 лет бессменно; 2) унтер-офицерский состав подобран великолепно; разубедить всех их (верхушку) нельзя – это утопия; 3) спекуляция, главная, идет на то, что отнимут экономические привилегии рабочих (кредиты, фабрики и заводы и так далее), бессовестная демагогия». Отсюда Вы делаете тот вывод, что «нужно разубеждать снизу, уничтожая сопротивление сверху».
Совсем не для того, чтобы с Вами полемизировать или припоминать прошлое, – ни к чему, – а для того, чтобы подойти к существу вопроса, я должен все же сказать, что Вы даете наиболее резкую, яркую и острую формулировку противопоставления партаппарата партийной массе. Ваше построение таково: плотно спаянная или крепко «насандаленная», как Вы выражаетесь, верхушка; великолепно подобранный сверху унтер-офицерский состав – и обманываемая и развращаемая демагогией этого аппарата партийная, а за ней и беспартийная рабочая масса. Разумеется, в ча-стной записочке можно выразиться крепче, чем в статье. Но даже и с этой поправкой получается картина прямо-таки убийственная. Всякий вдумчивый партиец должен спросить себя: а если бы не вышло конфликта между Зиновьевым и большинством ЦК, тогда ленинградская руководящая верхушка продолжала бы и девятый и десятый год поддерживать тот режим, который она создавала в течение восьми лет? «Действительное положение вещей» совсем не в том, в чем Вы его видите, а в том, что недопустимость ленинградского режима вскрылась только потому, что возник конфликт в московских верхах, а вовсе не потому, что ленинградские низы заявили протест, выразили недовольство и прочее. Неужели же Вам это не бросается в глаза? Если Ленинградом, то есть наиболее культурным пролетарским центром, правит «насандаленная» верхушка, «спаянная бытом» и подбирающая унтер-офицерский состав, то как же так партийная организация этого не замечает? Неужели же не находится в ленинградской организации живых, добросовестных, энергичных партийцев, чтобы поднять голос протеста и завоевать на свою сторону большинство организации, – даже если бы протест их не нашел отклика в ЦК? Ведь дело идет не о Чите и не о Херсоне (хотя и там, конечно, можно бы было и должно ждать, что большевистская партийная организация не потерпит в течение годов безобразий в своей верхушке). Дело идет о Ленинграде, где сосредоточен несомненно наиболее пролетарски квалифицированный авангард нашей партии. Неужели же Вы не видите, что именно в этом, а не в чем другом, состоит «действительное положение вещей»? И вот, когда вдумаешься, как следует быть, в это положение вещей, то говоришь себе: Ленинград вовсе не какой-либо особый мир; в Ленинграде только более ярко и уродливо нашли себе выражение те отрицательные черты, какие свойственны партии в целом. Неужели это не ясно?
Вам кажется, будто я «из-за формальных соображений демократии» не вижу ленинградской реальности. Ошибаетесь. Я никогда не объявлял демократию «священной», – как один из моих прежних друзей…
Может быть, Вы припомните, что года два тому назад я на частном совещании Политбюро у меня на квартире сказал, что ленинградская партийная масса замордована больше, чем где бы то ни было. Выражение это (признаюсь, очень крепкое) я употребил в тесном кругу, как Вы употребляете в Вашей личной записочке слова: «бессовестная демагогия». [Это, правда, не помешало тому, что слова насчет замордованной ленинградским партаппаратом партийной массы гуляли по собраниям и печати. Но это уж статья особая и – надеюсь – не прецедент…] Значит, я видел действительное положение вещей? Но, в отличие от некоторых товарищей, видел его и полтора, и два, и три года тому назад. Я тогда же, на этом же заседании, сказал, что в Ленинграде все обстоит великолепно (на 100%) – за пять минут до того, как становится очень плохо. Это возможно только при архиаппаратном режиме. Как же Вы говорите, что я не видел истинного положения вещей? Правда, я не считал, что Ленинград отделен от всей остальной страны какой-то непроницаемой переборкой. Теория о «больном Ленинграде» и «здоровой стране», бывшая в большом почете при Керенском, не моя теория. Я говорил и сейчас говорю, что в ленинградском партийном режиме черты аппаратного бюрократизма, свойственные всей партии, доведены до наиболее крайнего выражения. Должен, однако, прибавить, что за эти два с половиной года (с осени 1923 года) аппаратно-бюрократические тенденции чрезвычайно усилились не только в Ленинграде, но и во всей партии в целом.
Подумайте на минуту над таким фактом: Москва и Ленинград, два главных пролетарских центра, выносят единовременно и притом единогласно (подумайте: единогласно!) на своих губпартконференциях две резолюции, направленные друг против друга. И подумайте еще над тем, что наша официальная партийная мысль, представленная печатью, совершенно не останавливается на этом поистине потрясающем факте. Как это могло произойти? Какие под этим скрываются социальные тенденции? Мыслимое ли дело, чтобы в партии Ленина, при таком исключительно крупном столкновении тенденций, не сделана была попытка определить их социальную, то есть классовую природу? Я говорю не о «настроениях» Сокольникова, или Каменева, или Зиновьева, а о том факте, что два основных пролетарских центра, без которых нет Советского Союза, оказались «единогласно» противопоставлены друг другу. Как? Почему? Каким образом? Каковы те особые (?) социальные (?!) условия Ленинграда и Москвы, которые позволили такое радикальное и «единогласное» противопоставление? Никто их не ищет, никто себя об этом не спрашивает. Чем же это объясняется? Да просто тем, что все молчаливо говорят себе: стопроцентное противопоставление Ленинграда и Москвы есть дело аппарата. – Вот в этом-то, Николай Иванович, и состоит «истинное положение вещей». И я его считаю в высшей степени тревожным. Поймите, поймите это!!
Вы намекаете на связь ленинградской верхушки «через быт» и думаете, что я, в своем «формализме», этого не вижу. А между тем, всего несколько дней тому назад один товарищ случайно напомнил мне разговор, который у нас был с ним более двух лет тому назад. Я развивал тогда примерно такой ход мыслей: при чрезвычайно аппаратном характере ленинградского режима, при аппаратном высокомерии правящей верхушки неизбежно развитие особой системы «круговой поруки» на верхах организации, что должно, в свою очередь, столь же неизбежно вести к весьма отрицательным последствиям в отношении малоустойчивых элементов партаппарата и госаппарата. Так, например, я считал крайне опасной особого рода «страховку» военных, хозяйственных и иных работников через партаппарат. Своей «верностью» секретарю губкома они приобретали право нарушать общегосударственные распоряжения или декреты в области своей работы. В области «быта» они жили уверенностью, что никакие их «недочеты» по этой части не будут поставлены им в счет, – если они пребудут верны секретарю губкома. Более того, они не сомневались, что всякий, кто попытается выдвинуть против них какие-либо возражения морального или делового характера, окажется зачисленным в оппозицию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, Вы круто ошибаетесь, когда думаете, что я «из-за формальных соображений демократии» не замечаю реальности и, в частности, реальности «бытовой». Только я не дожидался конфликта Зиновьева с большинством ЦК, чтобы увидеть эту непривлекательную реальность и опасные тенденции ее дальнейшего развития.