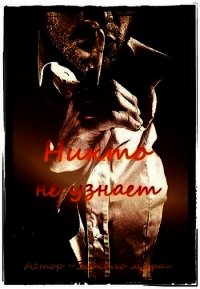Возвышающий обман - Кончаловский Андрей Сергеевич (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Почему так скептичен Чехов по отношению к интеллигентному человеку? Потому, что русская интеллигенция была (и до сих пор есть) насквозь партийна. Речь не о принадлежности к РСДРП, к эсерам или кадетам. Речь о негласном своде законов, которым она следовала, которые предписывали ей всегда быть в оппозиции к власти. Из этой интеллигенции вышли и народники, и народовольцы, и нечаевцы, и марксисты, и анархисты – не суть важно, особенно сегодня, кто из них более, а кто – менее в своих воззрениях прав. Все были убеждены в своей единственной правоте и нетерпимы друг к другу. «Партийность» в этом смысле русской нации свойственна. Россия страна глубоко ортодоксальная – православие в буквальном переводе и есть ортодоксия. Партийность в России означает одно: нетерпимость ко всем иным, отрицание чьей-либо правоты, кроме собственной. Русской церкви это в полной мере присуще: не успела она с колен встать, как у нее уже лютый враг – папа. Хотя вроде как верят в одного Христа! Откуда столь воинственное неприятие себе подобных, поклоняющихся, казалось бы, тем же истинам?
Западная Европа исторически выстрадала принципы терпимости и толерантности. И по отношению к другим религиям, и по отношению к другим партиям. Общеизвестна фраза Вольтера: «Я ненавижу ваши мысли, но готов умереть за то, чтобы вы имели право их высказать». На русский лад она, по-видимому, прозвучала бы: «Я ненавижу ваши мысли и готов убить вас, чтобы вы никогда не смогли их высказать». Русский человек пристрастен, нетерпим, склонен к крайностям.
Роль интеллигенции в истории России далеко не так позитивна, как то казалось нам в былые годы. Нигилизм – ее порождение. Реальность отрицалось – утверждалась утопия, светлое будущее, которое придет через сто или двести лет. Эти поиски рая на земле – тоже глубоко в русской традиции. Странничество – и есть поиск обетованной земли, где рай уже наступил.
Говоря в своих пьесах о прекрасном будущем, Чехов никогда не дает понять, что такова его точка зрения, – это слова его героев, а как он к ним относится, надо искать вне пьесы, в прозе, в записках. Замечательная фраза есть у Чехова про одного из своих героев: «И не заметил, как исполнилось ему сорок пять, спохватился, что все время ломался, строил дурака, но переменять жизнь было уже поздно. Как-то во сне вдруг точно выстрел: „Что вы делаете!“ И он вскочил весь в поту».
Мне думается, это случается с человеком в момент, когда он понимает, что не все впереди, многое уже позади, сейчас или никогда. Я называю это синдромом Че Гевары. Ленин, Мао, Че Гевара – все они в 42—43 года пришли к мысли сделать революцию. Синдром мужчины средних лет, осознавшего, что надо действовать, а как действовать – неизвестно. И у меня в этом возрасте появился тот же синдром: глядя на себя в зеркало, стал замечать, что не все уже впереди, жизнь не бесконечна – позади меня маячит какая-то тень. Чеховский «Черный монах» о том же. Человек взят в момент осознания своей смертности.
Герои пьес Чехова – люди, как правило, сорокалетние, слабовольные, показанные в момент, когда надежды молодости сменяет разочарование, переход от желания свободы к ощущению несвободы. Им открывается, как они заблуждались, думая, что самые лучшие годы впереди. Это очень чеховское – ощущение потерянного, бездарно потраченного времени.
Осознание перелома присутствует во всех чеховских героях и в каждой его пьесе. В основном это понимание бесцельности своей жизни. Но оно вовсе не обязательно ведет к выстрелу. Оно ведет к приятию мира – как у Нины, Сони, у дяди Вани, у трех сестер. Это великое приятие жизни в ее экзистенциальном философском смысле.
В работе над пьесой многие вещи виделись мне уже иначе, чем двадцать лет назад. Интересно было обнаружить, что драма у Чехова практически никогда не присутствует на сцене, она всегда «за кадром». Драма – или то, что было, или то, что будет. Или то, что за сценой, как выстрел Треплева. Чехов как бы ломает главный принцип старого театра, где действие двигалось событиями. У него оно движется не событиями, а паузами, сменами настроений. Именно в этом режиссер, если он пытается добраться до сути, выражает себя. Чехов – это симфония. Симфония характеров, смен состояний. Тут такие, извините, яйца нужны, чтобы в этой смене настроений найти музыку!
А не предвестник ли Чехов теории относительности? Хотя открыта она в 1910-х, но еще до этого бродила в умах. Эйнштейн открыл ее, но открытие это было подготовлено усилиями многих. Относительность добра и зла, о которой писали Достоевский, Ницше, – это ведь тоже великий перелом в сознании человечества! Европа стала понимать, что и Зло может быть во имя добра и Добро, утверждая себя, нести зло.
У Чехова нет хороших героев и плохих героев. У каждого свои слабости, очень человеческие. Ему свойственно приятие человеческих недостатков как необходимой части жизни.
У Чехова характер постоянно меняется, как и его оценки, как и само восприятие образа. У него возникло новое в литературе ощущение субъективации момента, субъективации характера – то, что потом так развил Пруст. Писатель как бы влезает в своего героя, но рассказывает не со своей, писателя, а с его, героя, точки зрения.
В пьесах Чехова особое течение времени. Оно долго-долго стоит, ничего не происходит, потом – взрыв. Потом опять неподвижность. И опять вдруг взрыв. Чехов манипулирует временем с такой вольностью, какую и после него позволяли себе только Беккет и Ионеско, остановившие время совсем. В одном из писем Чехов обронил: «Кончил пьесу вопреки всем правилам драматического искусства». Пьеса затихала, кончалась не разрешением, а затуханием, пианиссимо.
Ставя «Чайку», я знал, конечно, что пьеса завальная. Вспоминал Карасика, которому она обрыдла так, что уж и думал лишь: поскорее б закончить. Я понимал, что к финалу зритель должен думать не столько о том, что происходит на сцене, сколько о том, что будет происходить после того, как опустится занавес. В финале у Чехова – гигантское многоточие. Окончен спектакль, зритель уходит, думая: «Боже! Как жить дальше?» Пьеса не завершена – оборвана. Вырвана из контекста театра и перенесена в контекст жизни.
Кинематографический опыт постановки Чехова, имевшийся у меня по «Дяде Ване», тут был не очень пригоден. Кино работает изображением, театр – словом. Кино могут смотреть глухие, спектакль – слепые. В кинематографическом действии мы изнутри – театральная сцена предстает перед нами фронтально. Нам не дано оказаться внутри ее – в отношения героев можно проникнуть только через вибрацию, через актерское излучение, актерский ансамбль. Ставя «Чайку», я только пытался постичь этот очень новый для меня мир.
Как-то я задумался: кто мог бы гениально сыграть дядю Ваню? Точнее, героя того же человеческого типа? Чарли Чаплин. Скажем, работал бы он парикмахером, стриг бы клиентов и говорил: «Если бы вы знали, какой я гениальный актер! Какая слава ждала бы меня, если...» А все вокруг только бы отмахивались: «Да оставь ты, Чарли. Стриги усы и бороды. Хороший ты, в общем, парень...»
От актера можно требовать разного. Есть какой-то баланс между тем, чего от него можно ждать как от творческой единицы, и тем, чем нагружает его режиссер. В кино актера можно единовременно нагрузить очень сильно, потребовать отдачи, потому что это не непрерывное действие, а концентрированный фрагмент, съемка – от и до. А в театре нет «от и до» – есть непрерывное течение жизни. Актер должен на сцене жить. А режиссер для этого должен создать ему мир – мир людей, которые любят друг друга. Людей этих мы собирали по всей Франции, и собрать их надо было так, чтобы они друг друга любили, ощущали духовное единство персонажей, личностей на сцене.
Выбирая актеров, я устроил пробы. Приходило немало народу. Труднее всего было найти Нину Заречную.
Пришла Изабель Юппер, звезда. Пробоваться не хотела, но сказала:
– Мне это интересно.
– Надо репетировать, – сказал я. – Почитайте.