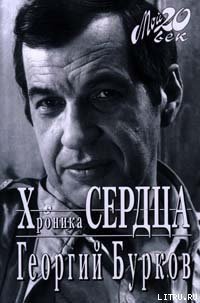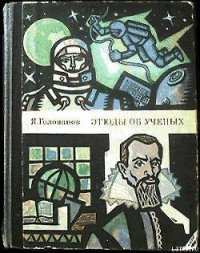Исторические этюды - Соллертинский И. И. (книги бесплатно читать без .TXT) 📗
Голландец стал хронологически первым действительно трагическим героем Вагнера. Ибо, если отвлечься от всей романтической аппаратуры — ревущего океана, сверкающих молний, пушечных выстрелов, угрюмых скал и развеваемых ураганом черных плащей,— перед нами один из вариантов «молодого человека XIX столетия», одержимого «мировой скорбью». Летучий голландец — романтическое выражение трагедии мелкобуржуазного интеллигента-ху-дожника, бездомного, гонимого непризнанием и нуждой, скитающегося по европейским столицам в тщетных поисках родины. Проблему рокового и двусмысленного положения художника в капиталистическом мире Вагнер ставил на разные лады — и в теоретических работах, и в памфлетах, и в музыкальном творчестве. Автобиографические черты (и в то же время типологические черты «трагедии художника») проступают в «Голландце» совершенно отчетливо. Сам Вагнер писал, сравнивая «Риенци» и «Моряка-скитальца», чта в промежуток времени между сочинением ртих двух опер с автором произошло нечто значительное. Пребывание
Ш
в Париже углубило психологический кризис Вагнера. «Моряк-скиталец» полон зловещих и мрачных страниц. Правда, это еще далеко не законченное мировоззрение; впереди еще предстоят революционные схватки, дрезденские баррикады и судьба политического эмигранта. Пессимизм «Голландца» — это скорее пессимизм юношеских «бури и натиска», и в известной мере прав немецкий музыкальный критик Макс Граф, когда он проводит параллель между «Моряком-скитальцем» и «Вертером» Гёте.71 Впрочем, сходство этих произведений лежит отнюдь не в плоскости общей идеи или развертывания сюжета, но скорее в общей психологической тональности.
3
«Моряк-скиталец» интересен и в другом отношении: в нем впервые выступает идея искупления, которой в дальнейшем творчестве Вагнера суждено будет занять центральное место. Желанная и недоступная смерть для голландца наступит лишь тогда, когда его проклятие будет искуплено любовью женщины, приносящей себя в жертву. Миссию искупительницы принимает на себя дочь норвежского моряка Даланда — Сента: в заключительной сцене оперы она бросается со скалы в море — и в ту же минуту погружается на дно заколдованный корабль со всем экипажем; «пытке бессмертием» наступает конец.
Баллада Сенты о летучем голландце становится центром действия и зерном всей оперы. Сента полна предчувствий; она подолгу всматривается в портрет чернобородого незнакомца в плаще, висящий на стене в комнате отца (прием, заимствованный Вагнером у представителей так называемой «драмы рока» — «Schicksalsdrama»: ЗахаРиаса Вернера, Гувальда, Мюлльнера и др., в чьих трагедиях фигурируют всевозможные «роковые предметы»). Драматизм усиливается с появлением Эрика — жениха Сенты, персонажа, неизвестного легенде и введенного Вагнером для создания трагического конфликта. Эрик рассказывает вещий сон, где фигурирует незнакомец с портрета. Экзальтированная Сента доходит чуть ли не до полной галлюцинации. Внезапно раскрывается дверь: входят Даланд и голландец — оригинал таинственного портрета, его живой двойник...
Вся эта фантастика, ведущая поэтическое начало от романтических баллад Бюргера, Уланда и их английских параллелей, от выше упоминавшихся «драм рока», а музыкальное — от опер Вебера и Маршнера (особенно от «Ганса Гейлинга»), от замечательных, у нас далеко не оцененных баллад Лёве,— уживается у Вагнера с известными элементами реализма. В любопытных «Замечаниях по поводу исполнения оперы „Летучий голландец"», характерно обрисовывающих Вагнера как режиссера, композитор всячески подчеркивает необходимость реалистического изображения не только природы — океана, движущегося корабля (давая при этом технические указания декоратору и машинисту), но и героев оперы. В отношении наиболее трудной роли — Сенты он предостерегает: «Никоим образом не изображать мечтательное существо в духе модернистической, болезненной сентиментальности! Напротив, Сента — коренная уроженка Севера и при всей своей кажущейся сентиментальности сплошь наивна. Именно на такую наивную девушку, со всем своеобразием ее северной натуры, баллада о летучем голландце и портрет бледного моряка могут произвести столь сильное впечатление, чтобы внушить мысль об искуплении проклятого героя». И дальше Вагнер распространяется об особой восприимчивости норвежских девушек, желая тщательно мотивировать с точки зрения этнической психологии поведение Сенты. Поэтому вряд ли композитор присоединился бы к мнению тех комментаторов, которые видят в Сенте лишь воплощение принципа «вечно женственного» вроде Гретхен из II части «Фауста», а в диалоге ее с Эриком — столкновение «идеального сострадания» с «эгоистической реальностью мира».
Однако и реалистические тенденции Вагнера в «Мо-ряке-скитальце» не следует переоценивать. Непрерывное балансирование между фантастикой и действительностью, миром иллюзорным и миром реальным характеризует не только Вагнера начала 40-х годов, но и его музыкальных предшественников; Гофмана, Вебера, Шпора, Маршнера. Выйти на дорогу большого реалистического искусства немецкая опера первой половины XIX века не смогла, как не смогла и немецкая литература стать на путь реалистического романа в духе Бальзака или «Мадам Бовари» Флобера. Вот почему и в «Моряке-скитальце» преобладает романтическая раздвоенность: Сента находится на полпути
между простой крестьянской девушкой и экстатической
визионеркой, одаренной мистическим прозрением; сам «летучий голландец» — на полпути между Агасфером или байро-новским Каином и стандартным героем приключенческого морского романа. И лишь Даланд — не вполне удавшаяся бытовая (впрочем, отнюдь не комическая, как трактуют иногда исполнители) фигура старого моряка — отца Сенты, чересчур поспешно сватающего свою дочь за богатого незнакомца,— да эпизодические типажи норвежских матросов Даландова экипажа замышлялись автором целиком в реалистических тонах. Что касается Эрика, то, по вагнеровской ремарке, он менее всего «сентиментальный пискун» или рутинный лирический тенор; автор даже советует выпустить из его партии несколько мест (например, заключительную каденцию из каватины III акта), если они будут способствовать слащавому исполнению роли; однако нельзя отрицать, что Эрик — достаточно традиционная фигура в доваг-неровской немецкой опере: вспомним веберовского Макса или охотника Конрада из «Ганса Гейлинга» Маршнера.
И тем не менее, несмотря на раздвоенность общей концепции, на романтическую бутафорию, на явственные следы влияний предшествующей немецкой оперы, на ряд штампованных мест, на риторику, временами подменяющую трагический пафос, «Моряк-скиталец» является громадным шагом вперед в истории становления вагнеровской музыкальной драмы. От «Риенци» его отделяет если не пропасть, то, во всяком случае, серьезная дистанция. В нем есть единство музыкального замысла. Если песню рулевого, песнь за прялкой, каватину Эрика и можно еще рассматривать как некие оперные «номера», хотя и включенные в музыкальнодраматическую ткань оперы, то баллада Сенты есть ее подлинный стержень. «В этом отрывке, — пишет Вагнер, — я бессознательно заложил тематическое зерно всей музыки оперы: это был мой творческий эскиз всей драмы, как она вырисовывалась в моей душе, и, когда я должен был озаглавить готовую работу, я был не прочь назвать ее „драматической балладо й”».72
Оперу предваряет широко задуманная драматическая увертюра, ныне одна из популярных концертных вещей. Лист в своем превосходном разборе «Летучего голландца» «(Dramaturgische Blatter, 2-я часть) по праву называет рту увертюру подлинной «инструментальной драмой». Центральный музыкальный образ увертюры — бушующий океан, по которому игрушкой ветров носится корабль-привидение. Портика моря всегда привлекала композиторов-романтиков: лучшие примеры тому — элегические пейзажи «Фингаловой пещеры» и «Шотландской симфонии» Мендельсона. Увертюра «Моряка-скитальца» выдержана в тонах «бури и на