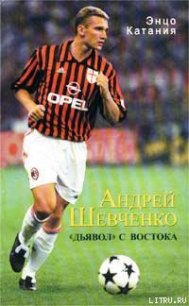Андрей Первозванный. Опыт небиографического жизнеописания - Грищенко Александр Игоревич (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
— Сотворил же здесь, — не останавливался Георгий, — святой Андрей немало чудес. Увидев их, воспоряне немедленно послушались его богодухновенного слова, крестились во имя Отца и Сына и Святаго Духа и до сего дня не впадали ни в одну из душевредных ересей, якоже вы сами и зрите воочию. Вот иконы святыя, коим поклоняемся мы более пятисот лет. — И Георгий повёл студитов вдоль стен церкви, показывая им удивительные иконы Христа и святых, написанные восковыми красками, столь же прекрасные образы стояли в алтарной преграде и в самом алтаре. Воистину написаны они были не руками человеческими, но самими ангелами! Ещё удивительнее было обнаружить это чудо в такой глуши, как Воспор.
— А в основание нашего храма, — торжественно объявил Георгий, указывая на плиту в полу алтаря, — вмурована рака святого апостола Симона Кананита. Воззрите на сию надпись: «Симона апостола», — гласит она.
— Погоди, отче, — остановил его Епифаний. — А чьи же тогда мощи покоятся в Никопсии Зихийской?
Георгию вопрос не очень понравился, и, задумываясь над каждым словом, он стал отвечать:
— Да, говорят, лежат там мощи апостола Симона, но немного… Это они… то есть зихи, неумытые варвары… получили от нас, егда приснопоминаемый василевс Юстиниан основал им епископию рукою нашего митрополита. А у нас мощей много: с древних времён, Константиновых ещё, они здесь, и в знак подлинности их я передам частицу от них святой обители Студийской.
Сказав так, Георгий приказал служителям сдвинуть крышку раки и, помолившись перед ней, спустился под пол. Через некоторое время он выбрался оттуда, высоко держа над собой мизинец святого. Епифаний пал на колени и облобызал частицу, а затем вложил её в свой дорожный ларец — туда, где уже были мощи другого апостола, и пообещал, что передаст их в хранилище Студийского монастыря, как только падёт иконоборческая власть и жизнь в обители будет восстановлена.
Именно об этом — о падении иконоборчества — горячо молился епископ Колимвадий на открытой террасе своего больтого загородного дома, когда Георгий привёл к нему студитов. Дом стоял на высоком холме, который, к удивлению константинопольских гостей, оказался огромным курганом древнего царя: его сводчатый склеп епископ приспособил под винный погреб. Принесли и вино, на столичный вкус чуть кисловатое и одновременно сладковатое, которое местные то ли в шутку, то ли всерьёз называли именем безбожной царицы Иезавели. С террасы открывался вид на Киммерийский пролив и все городки на его азиатском берегу, изрезанном протоками реки Ипанис.
— Поглядите, отцы-братья, — Колимвадий махнул в сторону моря, — на главное сокровище хазарское. Вот она, великая река, коей Меотийское блато изливается в Понт! В юности я посвятил ей целую поэму, да… И уже тогда безбожные хазары держали в своих руках всю торговлю здесь. Видите Таматарху на том берегу — на самом крупном из островов? Там сидит великий тархан хазарский, владыка Воспора и Таврики, а с ним мириада войска — по-хазарски «тумен». Вот потому и называется так этот городишко Тументархан — «тархан тумена», а по-нашему Тагматарха, что то же самое — «начальник тагмы», — прескверный городишко, надо признаться. Меня там ещё при великом господине нашем Тарасии, истребившем было иконоборчество, как вы, конечно, помните, — тогда меня этот тархан держал в яме и чуть не уморил голодом, а потом его прихвостни хотели меня утопить, но Господь сжалился надо мною.
Георгий тихо перебил владыку:
— Не следует так говорить о хазарах, господин. Они защитили нас от лютых еретиков-иконожёгцев.
— Знаю, знаю, Георгий. Хазарский язык трескучий, говоришь по-хазарски — словно палкой по частоколу ведёшь: тук-тук-тук-тук… Но разве не хазары жестоко истребляли готов-христиан в Таврике при блаженной памяти епископе их Иоанне? Разве не они грабят купцов в проливе? Правда, некоторые купцы успевают уйти от их поборов, проскальзывают незамеченными. Оттого-то тархан каждый год молит своих богов-бесов, чтобы сузили они пролив, и каждую зиму измеряет его ширину по льду — от Таматархи до Воспора. А пролив-то только расширяется!..
— … А что значит «от Тъмутороканя до Кърчева»? — спросила вдруг Нина Гришу, глядя на знаменитый Тмутараканский камень.
Гриша не сразу понял:
— Как что? Ты не знаешь, что такое Тмуторокань и Корчев?
— Очень приблизительно. Разве этот камень не подделка?
— Конечно нет. Хотя такие сомнения и были. Смотри, как хорошо в этом написании «Тъмуторокань» отразилась тюркская форма «Туман-Тархан». Хотя изначально-то тут было «Таман-Тархан», откуда и нынешняя Тамань, а со словом «тюмен», кстати, то есть с «десятью тысячами», этот «таман», титул какой-то, никак не связан. Я специально выяснял у профессора Добродомова… В конце восемнадцатого века, когда этот камень нашли, ещё не смогли бы до такого додуматься.
— А Корчев — это где?
— Нынешняя Керчь. Тоже очень интересная форма. Многие считают, что слово «Керчь» появилось сильно позже, поэтому и надпись на этом камне — подделка. Форма и вправду странная, тем более что в то время Корчев звался Воспором, то есть в честь древнего названия пролива — Боспора Киммерийского. В античное время — Пантикапей. Кстати, фон Гутшмид ещё в конце девятнадцатого века предположил, что неподалёку от Пантикапея, сейчас в черте Керчи, располагался тот самый Город людоедов из «Деяний Андрея и Матфия». Помнишь ведь, как он назывался? В одних списках — Мирна, в других — Мирмена, где-то — Мирмидона. Так вот, рядом с Пантикапеем был античный городок Мирмекий, а тамошние скифы — это, стало быть, людоеды. Епифаний уже не мог знать об этом Мирмекии, потому что к его времени там был всего лишь убогий хазарский посёлок. Иначе не пришлось бы ему идти на такую нелепую натяжку, как связывать со скифами Синопу. Откуда же в Синопе скифы!
Нина всё больше и больше погружалась в бархатистую глубину Гришиного голоса, который здесь, в залах Эрмитажа, звучал совсем по-особенному. Но что-то мешало ей окончательно потонуть в нём, и она снова и снова выныривала на поверхность.
— А зачем этот «Глеб-князь мерил море по леду»? И что за год там указан? «В лето…» — а дальше какие-то ваши старые цифры-буквы.
— «В лето 6576-е…» — это от Сотворения мира, то есть в 1068 году, — «…индикта шестого…» — ну, это ты знаешь: делим 6576 на пятнадцать, то есть на период индикта, и в остатке получаем именно шесть, — «…Глеб-князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева» — но вот зачем?., кто ж его знает… и получилось у него: «…четырнадцать тысяч сажень». Сколько это было на самом деле? Сейчас от Тамани до Керчи по прямой около двадцати трёх километров. Если разделить на четырнадцать тысяч, то окажется метр шестьдесят. Такая сажень тоже когда-то была, так что всё вроде сходится. Но нельзя исключать, что князем Глебом использовалась какая-то другая сажень, и тогда расстояние могло быть другим, ведь пролив-то становился то уже, то шире.
Гриша несколько дней водил Нину по одному только Эрмитажу, благо они поселились в академической гостинице по соседству, но, увы, в разных комнатах, на чём настояла именно она. В Петербург Нина прибыла по той же своей учёной нужде — в поисках архива Марра, в котором могла заваляться сделанная им копия с древнейшего, и без лакун, списка «Обращения Картли». А что могло оказаться в той копии… От предвкушения невиданного открытия у Нины захватывало дух, но она всё откладывала и откладывала свою работу, потому что за ней последовал Гриша, бросивший все свои дела в Москве. С ним было интересно, он открывал перед ней какие-то неведомые горизонты и в науке, и в быту, рассеивал её старые предубеждения, ломал стереотипы. Благодаря ему, например, она вдруг поняла, что грузинское вино не самое вкусное в мире, как ей внушали с детства. При этом Нина держала его на некотором расстоянии от себя, а Гриша всеми силами его преодолевал, выбиваясь из сил. Но она всё не решалась рассказать ему о сокровенном — о том, почему она не мыслила своей жизни рядом с каким бы то ни было мужчиной.