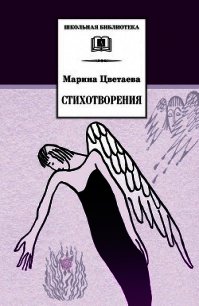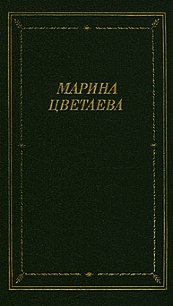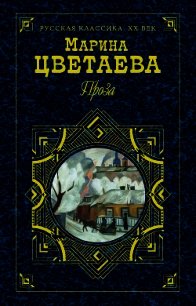Одноколыбельники - Цветаева Марина Ивановна (читать лучшие читаемые книги .TXT, .FB2) 📗
– Ишь, заспался, глаза таращит, – засмеялся кто-то из проходящих весело.
А снаружи голос мастерового:
– Вылезайте, господин! За кипятком пойдем. Я чайник раздобыл, и вы свой прихватите. Барышня пусть за вещами посмотрит.
Вскочил, потянулся и сразу почувствовал, что ночное было сном, бредом. Приятно поламывало ноги и руки. И Маруся проснулась. Переплетает косу смявшуюся, на него, как на знакомого глядит, улыбается. Чайник быстро от корзиночки отвязал, с площадки спрыгнул и от белизны сверкающей зажмурился. Мохнатый иней облепил деревья, крыши, проволоки, траву.
А мастеровой на путях стоит, чайником позвякивает, его поджидает, ухмыляется.
– Ишь как морозом дыхнуло! Блестит-то, блестит, аж по глазам царапает! Эх, хорошо!
И вовсе не страшный он, а веселый, ласковый, уютный. И не волчий взгляд, а собачий.
– Как спали? Страху вы на меня нынче ночью нагнали. Такой крик подняли, упаси Господи. Я подумал, не в своем уме вы. Я полоумных страсть боюсь.
В конце перрона у серого цинкового бака толпились, весело переругивались, старались протолкаться первыми вперед. Из приоткрытого бака валил голубой пар и быстро таял на морозе. Пар валил и из чайников, и из улыбающихся ртов, и из трубы отдыхающего паровоза.
Первым нацедил мастеровой, вторым он; нацедили и, весело гуторя, побежали по обисеренным шпалам обратно к своему вагону. У самого вагона, он уже ногу на приступенку занес, вдруг окликнули.
– Василий Иванович, вы ли? Дорогуся! Только вчера с полковником Крамером вас вспоминали.
На площадке второго – румяный, круглолицый, бритый, такой знакомый и такой ненужный сейчас – Лихачев. Московский адвокат Лихачев, то ли министр, то ли еще кто-то, где-то и при ком-то.
Как глупо, как глупо. Не нужно было выходить. Сам виноват, – так думал, а говорил другое, улыбаясь и кивая головой:
– Вот встреча! Какими судьбами! Куда путь держите?
Розовый ручкой в ответ:
– Ко мне, ко мне забирайтесь. У меня купэ отдельное. Да идите же скорей! Вечность с вами не виделись.
А мастеровой с площадки третьего кивает:
– Идите, господин. Ваше счастье. Я вам вещи передам. Во втором, на мягком, куда удобнее.
Сел на мягкий диван, отвалился на мягкую спинку, уперся ногами в звезду линолеума и счастливо, совсем неожиданно для себя, заулыбался. Здесь все не походило на площадку третьего. Мягко и благосклонно стучали колеса: «Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо», на откинутом столике, меж вскрытой коробкой серебряных сардинок и бугристыми, оранжевыми апельсинами дребезжали пузатая бутылка и крошечная хрустальная стопочка; с сетчатой полки солидно и опрятно смотрели два рыжих чемодана, добротных, кожаных со старыми багажными наклейками – Москва, Варшавская и Paris. Розовый адвокат опрятностью походил на свои чемоданы. От него несло ароматным мылом, пухлые щеки, свежевыбритые, и короткие волосы, гладко прилизанные, сияли. Умные, зеленые кошачьи глаза приветливо щурились, и даже две золотых пломбы на передних зубах при улыбке посверкивали привлекательно.
– Миленький, Василий Иванович, да расскажите же – почему вы, куда и зачем? Мне полковник Крамер с восторгом о ваших подвигах отзывался. Два раза в Москву и обратно с какими-то пакетами, по каким-то секретным поручениям. Я диву дался. Бросить жену, бросить работу, так удачно начатую. В чем же дело? Расскажите, миленький.
Как рассказать ему, такому круглому? Для него все плоскость, куда ни толкни – покатится, весело, деловито, уверенно. И объяснять-то нечего. Просто случилось, что давнишнее, затаенное, почти неосязаемое выросло в неминуемую, непреодолимую неизбежность.
– Да, так как-то вот…
Кашлянул и замолчал.
– Вы лучше о себе расскажите.
Розовый словно только этого и ждал.
– Помните… Мы с вами… в последний раз… перед совещанием московским[121] … после него я сейчас же, ясно поняв, взвесив… не соглашаясь со своей группой и…
Покатился без остановок дальше, дальше, через октябрь кровавый московский, он предчувствовал, он предупреждал, через поход корниловский[122], тоже предупреждал, через губернии и области, города мирные и осажденные, содрогающиеся от выстрелов и затихшие в ожидании грома, через комитеты, митинги, советы, партийные съезды, совещания, через германцев и австрийцев, Петлюру и гетмана, казаков и добровольцев, – и даже через чеку прокатился. Когда говорил о чеке, улыбка на время сошла. С купцом сидел, со смертником. Сошел с ума купец и три дня перед смертью буйствовал, кулаками, ногами и головой в стену дубасил. Розовый чуть сам рассудка не лишился. К счастью, один из чекистов бывшим его подзащитным оказался, вызволил его, спас и от безумия, и от смерти. Но чека – это только неделя, когда запнулся шар, в яму закатился. А потом все пошло прекрасно, и семью он вывез, и сам устроился товарищем где-то и при ком-то.
– Сейчас, Василий Иванович, мы должны беречь себя. Мы понадобимся. Пройдет безумие, без нас там не обойдутся, как и сейчас не обходятся здесь. Я на себя со стороны смотрю. Нужен я? Необходим я? Обойдутся без меня? Нет. А потому…
И покатился, покатился дальше.
Василий Иванович с улыбкой кивал, со всем соглашаясь, но слушал не слыша, не вникая в слова. Слова говорили меньше, чем щеки розовые, аромат мыла Pears, мягкий уверенный голос, сверкающие золотые коронки, университетский значок на отвороте серо-голубого просторного пиджака. В окно ломилось солнце. От стаканчика, бутылки и зеркала прыгали зайчики по лакированной двери купэ. Укачивали пружины сдобного, пухлого дивана. В вентиляторе над фонарем посвистывал ветер. Еще не топили, и в вагоне было свежо. Василий Иванович накрыл ноги пушистым пледом Розового и вздрагивал от нутряного холода. И это было приятно. Сейчас бы лечь на диван, шубой медвежьей с головой укрыться и под щекотным мехом не спать, а слушать, слушать стук колес.
– Я заговорил вас, а ведь вы нездоровы. Что с вами? Простудились? Глаза блестят и губы сухие.
– Нет, нет, я здоров, совсем здоров.
Розовый недоверчиво потрогал руку Василия Ивановича. Ладонь Розового была мягкой и теплой, рука Василия Ивановича – ледяной.
– Жара нет как будто бы, а вид подозрительный. И молчите вы все. Слова из вас не выдавишь. До сих пор не сказали, куда едете?
Сказать или скрыть? И еще не решив твердо, неожиданно для себя, выговорил:
– В Москву.
– В Мо-оскву?
Розовый приоткрыл глаза, перегнулся к Василию Ивановичу и зачем-то перешел на шепот.
– В командировку опять?
– В командировку.
– А тот, в шапке, тоже с вами?
– Какой? Ах, этот, мастеровой, – нет.
– Слава Богу. Он мне очень не понравился. Ну, расскажите же, расскажите! – нетерпеливо заерзал на месте Розовый.
Василий Иванович заговорил. Он сам не ожидал этого. С ним в этот день творилось странное. От солнца ли, или от полубессонной и бредовой ночи, но все вокруг сегодня ему восторженно нравилось. Мастеровой, простоволосая Маруся, бак с кипятком, стук колес, холод, Розовый, иней – все и всё казалось прекрасным.
Случилось это так. В купэ постучали. Розовый почему-то растерялся и даже покраснел. Казалось, он ожидал появления чекистов. Василий Иванович сам открыл задвижку, и в купэ вошла дама.
– Простите. Я думала – вы один.
– Присаживайтесь. Знакомьтесь. Начинающий ученый…
Запнулся. Можно ли произносить фамилию? И Розовый проглотил ее. А даму назвал ясно: Кульчицкая Елена Георгиевна.
– Кульчицкая, вы, конечно, слышали? Наша гордость.
Василий Иванович ничего не слышал. Он видел. Видел глаза любопытствующие, кожу смуглую, взлетевшую бровь, родинку на подбородке, милый взъерошенный мех вокруг шеи, худобу – не простую, птичью, ласточкину. Ласточка, почти стрела, носится, по сердцам острым крылом задевает. И холодком от нее веет, морозом, ледяными, снежными кристаллами. Зимняя ласточка. Каких не бывает.
Села. Улыбнулась.
– Я помешала?
– О, нет, нет, нет, мы… – Василий Иванович заторопился, – мы говорили…