Криминальная Москва - Хруцкий Эдуард Анатольевич (мир книг .TXT) 📗
Мы начали в те годы говорить много и смело. Мы слушали Ива Монтана, смотрели «Мандат» Н.Эрдмана, спорили о романе В.Дудинцева «Не хлебом единым». Летом 57-го бушевал Международный фестиваль молодежи и студентов. А камере № 18 Владимирского централа сидел «железная маска»
Через много лет в Казани на кладбище мне показали могилу генерала В.И.Джугашвили. На памятнике было написано: «Единственному». И думая сегодня о судьбе этого человека, я невольно прихожу к выводу, что в этой стране никогда ничто не менялось и долго еще не изменится, до тех пор, пока мы не узнаем главные кремлевские тайны.
Вот и все, что я хотел рассказать об истории моей квартиры.
Наш дом, как огромный корабль, неумолимо плывет сквозь время. Остались за кормой времена культа личности, потом оттепели и хрущевского волюнтаризма, весело миновал застой. Бурно покачались на волнах перестройки.
К какому же берегу причалит наш неуправляемый корабль? Писатель Александр Малышкин взял к своему трагическому роману о жизненном переломе «Севастополь» печальный эпиграф, созвучный с нашим временем:
«…Идут на Север срока огромные…»
В магазине «Лесная быль» на Сретенке мы купили четыре плетенки раков, а директор знаменитой торговой точки, наш добрый знакомый, позвонил в 40-й гастроном на улице Дзержинского, и мы разжились чудовищным по тем временам дефицитом — чешским пивом.
На город опустилось солнечное июньское воскресенье, и сретенские переулки залило радостным светом.
Мы выгрузили наше богатство у большого, когда-то доходного, дома в Большом Сергиевском, где жил наш товарищ Володя Казанцев.
Мы часто собирались у него в большой коммунальной квартире, потому что Володя жил в громадной тридцатиметровой комнате.
Когда-то вся квартира принадлежала его деду, известному инженеру-путейцу. После революции их уплотнили, но, принимая во внимание, что инженер Казанцев слыл крупным железнодорожным спецом, оставили его семье самую большую комнату.
Я любил приходить к Володе и разглядывать старые фотографии, которыми были завешаны стены комнаты.
Это были портреты его огромной родни. Из темных рамок смотрели на нас мужчины в студенческих тужурках, служивых вицмундирах, офицерской форме.
Женщины в платьях с буфами, высокими прическами и обязательным медальоном на груди.
Я смотрел на эти прекрасные лица, и казалось, что кто-то из них, как чеховская Ольга из «Трех сестер», скажет внезапно: «…пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас…»
Как все-таки прекрасно рассматривать старые фотографии.
Рядом с портретом деда в красивой форме инженера-путейца — небольшая фотография отца: гимнастерка, на петлицах три кубаря и саперная эмблема. Он не вернулся в Большой Сергиевский, погиб под Москвой в 41-м.
Портрет самого Володи Казанцева в форме штурмана-речника.
Он остался один из всей дружной старомосковской семьи. Ее смахнули свинцовые ветры Гражданской войны, репрессий и Великой Отечественной.
Наш друг Володя учился в техникуме речного флота и иногда появлялся на улице Горького в красиво сшитой форме с узенькими курсантскими погонами.
Получив диплом штурмана, он проплавал на реках положенные два года, уволился, стал писать. Окончил заочно Литинститут, но каждое лето нанимался на одну навигацию на судно. Плавал по Енисею, Волге, Каме, Москва-реке. Осенью возвращался домой и писал неплохие истории из жизни речников.
В том далеком июле 70-го он плавал в Московском пароходстве. И его сухогруз стал в столице на ремонт двигателя.
Здоровая коммуналка, типично московская, со старыми велосипедами на стене, с сундуками в коридоре, с непременными корытами, висящими в ванной, была пустой. Летом соседи разъезжались по садовым участкам. В те годы это было повальной эпидемией.
Раков поручили варить Валере Осипову, который считал себя непревзойденным специалистом в этом деле. Мы с Володей выполняли его указания.
Когда аромат варящихся раков стал нестерпимым, в глубине квартиры послышались шаги.
На кухню вошел Александр Гаврилович, сосед Володи.
— Меня разбудил этот божественный запах. Здравствуйте, друзья.
Манера говорить, одеколон «Лаванда» и безукоризненный пробор в седоватых волосах совсем не вязались с его профессией. Как мы знали, он вкалывал обыкновенным литейщиком на заводе «Серп и молот».
— Повезло мне, что я в ночную смену работал, — засмеялся Александр Гаврилович, — иначе уехал бы на свой садово-огородный рай и такое пиршество проспал. Возьмете в компанию? Моя доля — две бутылки «Столичной».
Когда разделались с первой кастрюлей раков, ряд пивных бутылок поредел и растаяла одна поллитровка «Столичной», когда мы обсудили «Черный обелиск» Ремарка и поспорили о пьесе «Дион» Зорина, причем литейщик-интеллигент поразил нас точностью формулировок и знанием литературы, Александр Гаврилович сказал странную фразу:
— Раки, пиво, водка. Беседа душевная, день за окном изумительный. Повезло вам, ребята. В рубашке вы родились.
— Не понял, — обсасывая клешню рака, прогудел Осипов.
— А чего понимать-то. Вы же все трое с Бродвея, стиляжки московские.
— Ну и что? — поинтересовался я.
— А то, ребята, не откинь тапочки великий вождь, валили бы древесину или дорогу строили на севере диком.
— С каких дел? — засмеялся Валера. — За нами ничего не было.
— А это вам неизвестно, было или не было. Да и не интересно это никому. Через семнадцатую вы должны были пойти, через семнадцатую.
— А вы откуда знаете?
— Он знает, — вмешался в разговор до этого молчавший Володя.
— Знаю, если говорю. — Литейщик-интеллигент налил себе водки, выпил, оглядел нас насмешливо. — Ну что ж, извините за компанию, — встал и вышел.
— Все, набрался, — усмехнулся Казанцев, — поплыл.
— Да кто он такой? — рявкнул скорый на скандал Валера Осипов.
— Кто он? — Володя налил себе пиво, — Страшноватый персонаж. Был совсем молодым полковником МГБ. Работал с генералом Влодзимирским, занимался контрреволюционными настроениями в молодежной среде. Когда бериевскую бражку арестовали, его тоже посадили. Он пять лет во Владимирской тюрьме просидел. Вернулся, пошел на «Серп и молот» литейщиком. Профессия хотя тяжелая, но денежная. Сложный, странный человек и страшноватый, конечно.
Чуть позже я выяснил, что Александр Гаврилович сам никого не арестовывал и не мучил на допросах, он писал сценарии заговоров. По его заданию агентура разрабатывала намеченных людей и на основании увлечений, разговоров, связей составлялся проект будущего следственного дела.
И для всех, кто шлялся тогда по московскому Бродвею, ходил на танцы в рестораны «Спорт» и «Москва», готова была знаменитая семнадцатая статья УК— умысел.
Я встречал его потом, когда приходил к Володе. Чекист-расстрига вежливо улыбался мне и мило обсуждал новости столичной культурной жизни.
Он смотрел на меня так, словно знал то, что я никогда не узнаю.
Я помню многих, с кем гулял по нашей знаменитой улице. Там были разные компании. И со всеми я был в прекрасных отношениях. Регулярно наши приятели исчезали, и по Бродвею, «Коктейль-холлу», «Авроре» ползли слухи, что их посадили. Но мы тогда не знали, кто и за что.
Истории об их исчезновении слагались самые невероятные и всегда с уголовным уклоном.
Потому что, если бы кто-нибудь сказал, что наши приятели создали антисоветскую организацию или были причастны к шпионажу, мы бы не поверили.
Сомнения стали появляться позже и укрепились после смерти Сталина.
В ноябре 51-го года мы стояли с моим товарищем Виталием Гармашом у ресторана «Киев» на площади Маяковского.
В Центральном театре кукол Образцова закончился спектакль «Под шорох твоих ресниц», театральный шлягер тех лет. Это была пародия на Голливуд, со всеми пропагандистскими аксессуарами, но нас привлекала музыка спектакля. Вполне естественно, что пародия на американскую жизнь шла под прекрасные джазовые композиции.
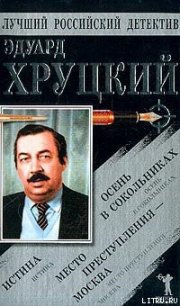
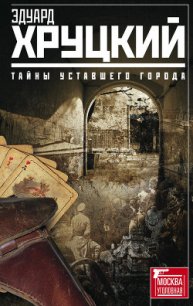
![Полицейский [Архив сыскной полиции] - Хруцкий Эдуард Анатольевич (бесплатные версии книг .TXT) 📗](/uploads/posts/books/11440/11440.jpg)
