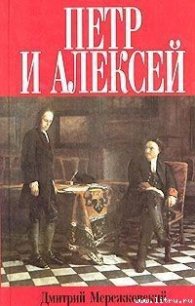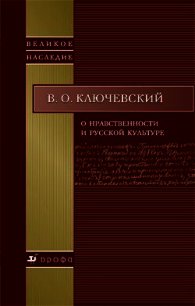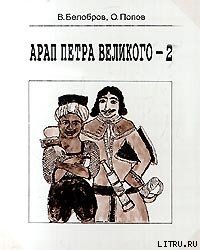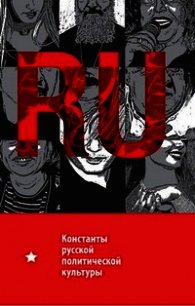Жизнь и творчество - Мережковский Дмитрий Сергеевич (читать книги онлайн без .TXT) 📗
Неужели нет выхода и для самого художника? Последний ли это предел, последняя ли ступень его творчества? Кажется, есть еще одна ступень. Но он достигает ее не сознанием, идущим против плоти к тому, что без плоти, а лишь ясновидением, идущим через плоть к тому, что за плотью.
И только здесь, на этой последней ступени, в этой последней подземной глубине есть для него выход в другую половину мира, в другое небо.
Четвертая глава
«Уж я его знаю, зверя», — говорит дядя Ерошка.
Л. Толстой мог бы сказать о себе самом и поставить эпиграфом ко всем своим произведениям эти слова старого язычника:
«— Уж я его знаю, зверя».
«— А ты как думал?» — заключает дядя Ерошка рассказ о кабаньей матке, которая, «фыркнув на своих поросят», сказала им: «Беда, мол, детки, человек сидит». — «А ты как думал? Ты думал, он дурак зверь-то. Нет, он умнее человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть-то в пример возьми: человек-то по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все же не хуже тебя: такая же тварь Божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался».
«Божья тварь», не только «человек Божий», но и «Божий зверь» — в этом народном, простонародном сочетании слов, по-видимому, столь обычном, естественном, не чувствуется ли какая-то, все еще неиспытанная тайна, какая-то странная, все еще неразрешенная загадка.
И человек есть «Божья тварь», Божий зверь. Весь мир есть целое живое, животное (ξώον) — божественно-живое, может быть и божественно-животное — Бог-Зверь.
«Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку», — говорит святой старец Зосима у Достоевского. — «Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах… И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью. — Человек, не возносись над животными!»
«Божья тварь» — выражение христианское, «крестьянское», благочестивое, почти церковное; но нет ли в нем и чего-то до-христианского, даже до-исторического, индо-европейского, обще-арийского?
С какою беспечною легкостью древние греки, чистейшие арийцы, превращают бога-человека в бога-зверя. Члены божески-прекрасного, просветленного человеческого тела так соединяются, переплетаются с членами животных, даже растений. Великого Пана с Козлом, Пазифаи с Быком, Леды с Лебедем, Дафнэ с Лавром, что трудно иногда решить, где именно в человеке кончается человеческое, божеское и начинается зверское, животное, даже растительное: одно в другое переходит, одно переливается в другое, как отдельные цвета в радуге. Греки не столько задумываются, сколько забавляются этими метаморфозами, «превращениями», как сладострастными и веселыми баснями, играют как дети, с детскою резвостью, этими священными и страшными религиозными сосудами, соединениями, символами, которые пришли к ним с дальнего, древнего Востока, и таинственное значение которых для них уже почти непонятно.
Но вот — такой же ясный, простодушно-радостный, как эллины, и, вместе с тем, более глубокий, тихий народ — египтяне; можно сказать — раз, как задумались они над соединением в человеке божеского и зверского, над тайною «Божьей твари», так с тех пор никогда и не выходили из этой задумчивости, так и истощили в ней всю свою тысячелетнюю культуру. И доныне странные боги, изваянные из черно-блестящего, неистребимого гранита, эти полулюди, полузвери — тела человеческие с головами кошек, собак, крокодилов, копчиков, или звериные тела сфинксов с человеческими лицами, с тончайшими и одухотвореннейшими улыбками, какие являлись когда-либо на лице человеческом — которые нашему близорукому европейскому взгляду кажутся только чудовищно-суеверными идолами, — свидетельствуют об этой их неподвижной, вековечной и все-таки недодуманной, страшной и все-таки ясной думе.
Другое крошечное племя, горсть бродячих семитов, пастухов и кочевников, чуждое всем, всеми гонимое, ненавидимое и презираемое, заблудившееся в пустынях, целые тысячелетия видевшее над собою только небо, вокруг себя только голую, мертвую землю и перед собою единую, самую простую и великую во всей природе, черту, соединяющую небо и землю, черту горизонта, задумалось о единстве внешнего, стихийного и внутреннего, духовного, до- и сверх-животного мира. С неимоверною гордыней и возмущением это жалкое племя признало себя единым из всех «языческих» племен и народов «избранным народом Божиим», «Израилем»; своего Бога — единым истинным Богом: «Я — твой Бог, да не будет у тебя иных богов, кроме Меня». И во всей многообразной языческой плоти увидело оно лишь бездушное тело, «мясо», годное для кровавых жертв и всесожжений Богу Израиля. И лик человеческий — свой собственный лик — уединило, отделило, как лик Божий и подобие Божие, от всей животной языческой твари не переступною бездною. В этой идее страшного единства, уединения, в идее Бога ревнующего, как огонь поедающего, есть как бы дух, дыхание той огненной пустыни, из которой вышло это племя и которой оно никогда не могло забыть — дыхание мгновенно раскаляющее и потому иногда поразительно творческое, но, вместе с тем, и смертоносное, иссушающее.
Иудейство, в конце своей жизни, именно в то время, когда в борьбе с многобожием и многоязычием «эллинского рассеяния» отточило, обострило идеи своего религиозного отъединения, уединения до последней ужасающей изуверской крайности, столкнулось с поздним эллинизмом, в школе александрийских неоплатоников, неопифагорейцев, гностиков, в этом горниле, где образовался, как коринфская медь из множества металлов, тот сплав, который называется христианскою мудростью. Здесь впервые дух Семитства, дух пустыни и опустошения дохнул на великолепно и дико разросшийся, многообразный, многолиственный, баснословный лес индоевропейского мира, и хотя отравил своим ядом лишь одну, и без того уже засыхавшую, ветвь все еще свежего, зеленого Арийского дерева, но яд был так силен, что одной капли было достаточно, чтобы заразить новые, только что хлынувшие из Азии в Европу, арийские племена, вследствие крайней юности своей, беззащитные перед всеми культурными ядами. Старик заразил ребенка.
Северные полудикари, едва покинувшие лесные трущобы, приняли утонченнейший и опаснейший плод двух соединенных и уже истощенных многовековых культур с детской простотой, с варварской грубостью. В христианстве поражала их, пленяла, как пленяет ужас, притягивала, как притягивает бездна, именно та сторона его, которая была наиболее чуждою и противоположною их собственной природе — сторона исключительно семитская: добродетель, как умерщвление плоти, как отречение от мира, как уединение в страшной духовной пустыне, на вершине тех столбов, на которых коченели столпники, взгляд на собственное тело, как на нечто неискупимо-грешное, зверское, скотское, взгляд на всю животную стихийную природу, из которой сами они только что вышли и которую все еще слишком любили, как на порождение дьявола.
Этот дух воскресшего иудейства, дух пустыни, в которой скитался Израиль, все более и более усиливаясь в Средние Века, пронесся, как огненный вихрь, над всею европейскою культурою, иссушая последние цветы и плоды греко-римской древности, до самого Возрождения, где, по-видимому, он изнемог.
Но изнемог ли он окончательно даже и в наше время? Не сохраняется ли и в современном европейском человечестве старая семитическая религиозная закваска — семена потухающей, но все еще не потухшей заразы. Не пережило ли в нас все разрушения, все освобождения, бессознательное, вошедшее в нашу плоть и кровь, обоготворение духа, «чистого духа», единого, уединенного, хотя бы и в мертвой пустыне, всего отвлеченно-духовного, бескровного и бесплотного, хотя бы и бесплодного, взгляд на животную природу, если уже не как на нечто грешное, дьявольское, то все же унизительное, скотское, и, наконец, этот столь чуждый древнему арийству, столь чисто-семитский страх перед непокрытым телом, перед наготою, как перед чем-то стыдным, прелюбодейным, оскверняющим?