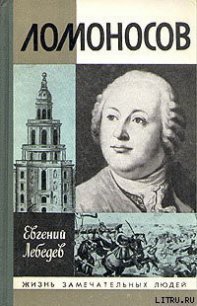Реквием (СИ) - Единак Евгений Николаевич (лучшие книги .txt) 📗
Однажды, раньше времени с поля приехал отец, сидя сзади на мотоцикле. За рулем был корреспондент районной газеты «Трибуна» Калашников. Он фотографировал и писал репортаж о заготовке силоса в нашем колхозе. Бригадир попросил отца покормить журналиста. Как его зовут, я не знал, но услышал, что отец очень часто называет его Николаем Александровичем. Наверное, еще и потому, что Калашников фотографировал отца в вилами в руках.
Мой отец любил, когда его фотографировали для газеты. Газета с его фотографией подолгу лежала на плюшевой скатерти круглого стола в большой комнате. Затем отец крепил газету кнопкой на стену рядом с зеркалом над сервантом. Так и висела желтеющая газета до очередной побелки.
Когда я вошел в комнату, корреспондент сидел за столом. Его длинный красный нос был изуродован огромной бородавкой, из которой рос единственный черный вьющийся волос. Калашников свирепо высасывал содержимое прошлогоднего соленого помидора.
Отец в это время в летней кухне жарил яичницу на сале. Воспользовавшись отсутствием отца, я попросил послушать мои стихи к песне о Куболте и напечатать их в газете. Я читал с листа. Журналист, перестав закусывать, внимательно слушал. Затем, взяв лист, прочитал:
— У тебя есть чувство ритма. Ты, хоть не всегда, но в основном, соблюдаешь размер строки. Ты любишь природу, видишь подробности, которые другому кажутся мелочью.
У меня перехватило дыхание. Мою грудь распирало. Я уже видел мое стихотворение, напечатанное в газете.
— Но этого мало. Тебе нужно многому учиться. Сочинительство требует глубокого знания жизни, особенно поэзия. Ты должен много читать. Твое стихотворение в таком виде печатать нельзя. Над ним надо работать.
Приземление было оглушительным. В это время со шкварчащей яичницей в большой сковороде вошел отец. Подавленный, я вышел. Через час, осилив совместно с отцом яичницу и оставив пустую бутылку, журналист, отчаянно газуя, поехал в район.
Одая
Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
До сих пор не дает мне покоя
Старинная сказка одна…
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
— Э-ге-гей! Вылезайте уже! Хватит, вашу мать! — гортанный, слегка хрипловатый голос сторожа Гаргуся, казалось, усиливался водной гладью, пронизывал насквозь пространство над прудом. — Вылазьте наконец! А то вон сзади вербы зеленые повырастали! Сейчас я вас крапивою!
Несмотря на много раз слышанные слова о зеленых вербах, которые, по преданию, вырастают у купающихся сверх меры, некоторые из младших опасливо оглядывали через плечо свои ягодицы, ярко выделяющиеся белизной на фоне загорелых детских тел. Старшие при этом снисходительно ухмылялись, хотя сами еще всего лишь два-три года назад при крике Гаргуся непроизвольно оглядывали себя.
На гребле появлялся сторож Гаргусь и неторопливо приближался, держа в руках длинную жердь, к тонкому концу которой был привязан пучок крапивы. Гаргусь — было известное на несколько сел прозвище Иосифа Твердохлеба, стража порядка на Одае — трех колхозных прудах, плодородном колхозном огороде и двух садах.
Старый сад, заложенный еще паном Соломкой, находился на южном берегу, а молодой колхозный сад был высажен после войны к северу от большого става.
Неопределенного возраста, выгоревшая от постоянного пребывания под солнцем, крупноплетенная соломенная шляпа удивительно гармонировала с вислыми седыми усами, пожелтевшими по центру от табака. Обкуренная до черноты люлька, шляпа, усы и остро выпирающие скулы, обтянутые бронзово-серой морщинистой кожей делали лицо Гаргуся похожим на обличье чумака, виденное в старых школьных учебниках.
Гаргусь вышагивал по гребле, с каждым шагом покачиваясь худым телом вперед. Малыши выскакивали из воды первыми, зажимали скомканную наспех одежду под мышкой и, в чем мать родила, пробегали дорогу, ведущую к гребле. Бежали, чтобы переждать грозу в виде Гаргуся во втором, или среднем ставу. Те, что постарше, подобрав одежду, неспешно одевались, точно рассчитывая время, необходимое Гаргусю для преодоления гребли и еще около ста метров до популярного места купания.
Лишь шестнадцатилетний Алеша Кугут невозмутимо продолжал находиться в воде, попыхивая папироской «Бокс» за, дореформенных шестьдесят первого, сорок пять копеек. Папиросы «Бокс» и «Байкал» за семьдесят шесть копеек почему-то назывались гвоздиками. Демонстративно повернутая в сторону камышей, выцветшая под солнцем и без того соломенно-желтая, стриженная под «польку» шевелюра Алеши, даже не дрогнула при появлении на берегу Гаргуся.
— Вылезай к чертовой матери, иначе одежду заберу. А возьмешь ее только в правлении! — стращал Гаргусь.
— А ты попробуй! — сразу начинал на ты Алексей. — Там комсомольский билет. Я тебя предупредил. Отсидишь двенадцать лет, потом подумаешь, прежде чем нарушать закон. А для начала отсидишь пятнадцать суток за мать при малышах. Два раза помянул. И свидетелей полно. — кивал на нас комсомолец, выпуская кольца дыма.
Выпустив дым, ощеривался широкой улыбкой, обнажая редкие крупные зубы:
— Бери! Попробуй!
Гаргусь, потянувшийся к одежде, видимо, уже подсчитал, сколько ему, семидесятилетнему, будет лет по возвращении из тюрьмы. Опасливо отдернув жердь, Гаргусь направился вдоль малинника через густые заросли цикуты, которую мы называли блэкит, в самый хвост озера, переходящий в непроходимые заросли трощи (тростника). На ходу он что-то бормотал себе под нос, временами озирался, а под конец в сердцах громко сплевывал в сторону:
— Тьфу! Ха-алера!
Алексей тоже сплевывал в воду окурок и, повернув голову в сторону малинника, окликал нас:
— Хлопцы! Купайтесь, сколько влезет. Я отвечаю.
Мы, все же стараясь не шуметь, входили в воду и группировались вокруг нашего кумира, комсомольца, способного упрятать в тюрьму самого Гаргуся.
Уже после написания главы я узнал, что Алеша комсомольцем никогда не был. За комсомольский билет он выдавал немецкий портсигар, который постоянно носил в заднем кармане штанов. Заявления о приеме в комсомол он подавал, но ему каждый раз отказывали. Отказ мотивировали злостным хулиганством Алеши. Но больше ему мешали его независимость и анархизм — полное непочитание власть предержащих.
Младшие, убежав на среднее, более мелкое озеро, больше не возвращались. Они барахтались в мутной воде, отпугивая от берега, кишащих в пруду уток. Не обращая внимания на вышедшую из небольшого птичника, расположенного под самой греблей большого става, птичницу Соню Фалиозу, малышня продолжала плескаться в грязной воде, часто поднимая со дна, оброненные утками яйца.