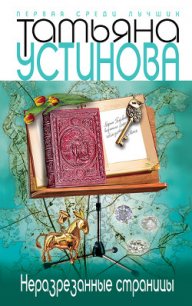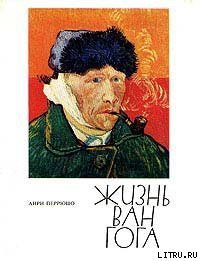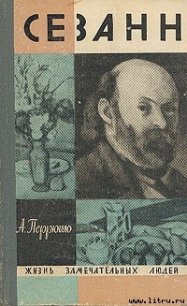Эдуард Мане - Перрюшо Анри (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Мане просто выходит из себя, оттого что не может закончить портрет. Как бы ему хотелось экспонировать его в Салоне 1870 года! Быть может, личность модели смирила бы этих олухов-критиков (какой журналист пойдет на то, чтобы нападать на Эммануэля Гонсалеса?), заставила бы их попридержать оскорбительные эпитеты. Мане верит в это еще сильнее, узнав, что Фантен-Латур готовит ему в Салоне некий апофеоз: Фантен пишет огромное полотно — «Мастерская в квартале Батиньоль», где автора «Олимпии» увидят сидящим за мольбертом среди некоторых верных друзей — Золя, Моне, Ренуара, Закари Астрюка, Эдмона Мэтра, Фредерика Базиля и молодого немецкого живописца Отто Шольдерера. Может ли «Батиньольская школа» более ясно заявить публике о своем существовании, о том, как она верит своему вождю?
Польщенный и очень растроганный этой данью уважения, Мане еще больше бранится, так как сеансы портрета Эвы следуют один за другим, и результаты лучше не становятся. Все это делается прямо-таки забавным. Художник принимается высмеивать сам себя. «Идет уже сороковой сеанс, а голову опять пришлось соскабливать», — говорит он Берте. Его поведение никогда не было таким неустойчивым. Временами — «безумное оживление», доходящее до «всяческих сумасбродств», а затем озадачивающие переходы от смеха к тоске, от подавленности к возбуждению. Рассмотрев один из холстов Берты, он утверждает, что ей нечего беспокоиться о ближайшем Салоне, что «ее выставочная работа сделана», а через две секунды говорит, что ее наверняка отвергнут. На Берту не может не подействовать эта неустойчивость настроения, граничащая с пренебрежительной развязностью, с которой относится к ней Мане; «все его восторги, — говорит она, — по-прежнему сконцентрированы на мадемуазель Гонсалес». «Моя живопись никогда не казалась мне такой отвратительной, — пишет Берта. — Я сижу на диване, и вид этой мазни вызывает просто тошноту! Вчера составила букет из маков и белых бульденежей, но у меня так и не хватило смелости за него взяться. Не понимаю, как это я вообще могла хоть что-нибудь писать!»
Да, все восторги Мане и впрямь продолжают сосредоточиваться на мадемуазель Гонсалес. Но как-то в сентябре, когда Берта Моризо появилась в квартире на улице С.-Петербург и устроилась на диване в гостиной в своем белом муслиновом платье свободного покроя, перехваченном в талии черным поясом, Мане в порыве вдохновения хватает перо и бумагу и за одну минуту набрасывает очертания нового портрета Берты. Вскоре портрет будет перенесен на холст и не потребует от художника ни сорока, ни двадцати пяти, ни даже десяти сеансов. Берта отдыхает в чуть мечтательной позе, положив руки на подушки, полураскинувшись на софе; ее черные локоны по диагонали падают на белый корсаж. Взор задумчив и словно погружен в печальные мечты. Все в этом полотне неподвижно, преисполнено молчанием, жизнь в нем словно приостановилась. Чувственность, мощная и словно приглушенная, будто наполняет девственную белизну ткани платья. Это полотно мастера — и признание мужчины.
Вскоре, несколько смягчившись, Берта пишет Эдме: «Супруги Мане заходили к нам во вторник вечером. Заглянули в мастерскую. К великому моему изумлению и радости, я получила самые высокие похвалы; по-видимому, это сделано и вправду удачнее, чем у Эвы Гонсалес. Вряд ли тут можно ошибиться — ведь Мане очень искренен; я убеждена, что ему это в самом деле понравилось. Вот только не могу забыть, что говорит Фантен: „Ему всегда нравится живопись тех, кого он любит“.
Этот портрет Берты Моризо получил название «Отдых»; и Мане поступил бы весьма благоразумно, включив его в число тех двух картин, которые пошлет в Салон. Вторым будет «Урок музыки» — написанная осенью композиция, где изображен Закари Астрюк, аккомпанирующий на гитаре молодой женщине. Но нет! Если у Мане и было мгновение, когда он полагал, что следует послать в Салон «Отдых», то вскоре он передумал и больше уже не отступал от намерения экспонировать там портрет Эвы, стоящий ему таких усилий. Почему? Быть может, он опасался, что «Отдых» выдаст его, что полотно это явственно обнаружит — и в первую очередь перед ним самим и Бертой — их скрытые чувства? Мане, художник, которому постоянно сопутствуют скандалы (о мирская ирония!), в противоположность тому, что о нем думают, человек бесконечно осторожный и более всего опасающийся обнародовать интимные стороны своей жизни и своего искусства. И даже — как знать? — не преследовало ли стремление выставить именно портрет Эвы Гонсалес (сейчас — перед лицом близких, Берты, перед самим собой, наконец, а завтра — перед лицом Салона) цели отвлечь, переключить внимание, сбить с толку, пресечь какие бы то ни было сплетни. Как удивились бы те, кто считал, что отлично знает этого будто бы предельно открытого и чистосердечного человека, если бы они могли почувствовать, как это чистосердечие сплетается с расчетами и осторожничанием.
Январь 1870 года. Февраль. Дни бегут, а портрет Эвы все еще не сдвинулся с мертвой точки. В то время как на улице Гюйо девушка работает над картиной «Мальчик-горнист» — этим полотном Мане советует ей дебютировать в Салоне, — живописец продолжает биться над злополучным портретом.
Мане показал две работы в кафе «Мирлитон» — центре Художественного союза на Вандомской площади. Дюранти, ставший в результате всех своих неудач и поражений сварливым и недоброжелательным и часто ссорящийся с «батиньольцами» (вот почему Фантен-Латур исключил его из числа персонажей своей «Мастерской»), холодно комментирует работы Мане в «Paris-Journal» от 19 февраля:
«Г-н Мане выставил философа, попирающего ногами устричные раковины, и акварель, воспроизводящую его же картину „Христос и ангелы“. Центр заслуживает лучшего. Находясь среди экспонированных картин, чувствуешь, будто они написаны не для того, чтобы доставить радость публике, а по какому-то принуждению, от которого хотели поскорее избавиться».
Такие недружелюбные слова окончательно переполнили чашу терпения Мане, пребывавшего тогда в лихорадочно-возбужденном состоянии. Вечером того же дня художник отправляется в кафе Гербуа, подходит к Дюранти и дает ему пощечину. Живописец и писатель обмениваются секундантами. Через четыре дня, 23 февраля, в 11 часов утра, они дерутся на дуэли в Сен-Жерменском лесу. Одинаково неопытные в подобных занятиях, они кинулись друг на друга «с таким ожесточением» (как отметит протокол дуэли), что погнули шпаги. Дюранти легко ранен — справа, чуть выше груди. Ошеломленные свидетели (Золя и трое редакторов из «Paris-Journal») спешат пресечь битву. Еще не оправившись от потрясения, Мане и Дюранти смотрят друг на друга и задаются вопросом: «Отчего оба так глупы, что вздумали дырявить кожу ближнего».
Ах! Уж эти чрезмерно нервные натуры! Следуют переговоры, и происходит примирение. История заканчивается вполне по-дружески и даже забавно. Мане предлагает Дюранти ботинки — «большие и удобные», купленные им специально для дуэли. Оба дуэлянта садятся на траву и разуваются, но у Дюранти размер побольше, чем у Мане, и он в отчаянии, что должен отказаться от башмаков.
После полудня завсегдатаи кафе Гербуа празднуют примирение, воцарившееся между случайными забияками, и сочиняют в их честь шутливый триолет.
Работы, предназначенные для экспозиции в Салоне, должны быть представлены во Дворец промышленности 20 марта. 12 марта Мане «заканчивает» портрет Эвы; с него довольно, он отказывается что-либо переделывать.
Полотно отправлено; Мане чувствует, что сбросил с себя большую тяжесть. Берта намерена послать на суд жюри подаренный Мане «Вид порта Лориан» и картину (она ею очень дорожит), где изображены ее мать и сестра Эдма. Подгоняемая временем, опасаясь провала, Берта приходит в такое отчаяние, что даже не может есть. В конце концов за два дня до последнего срока представления работ она решает позвать на консультацию Мане. Мане приходит, бросает на холст быстрый взгляд. «Но это очень хорошо, — говорит он, — чуть хуже вот здесь, в нижней части платья». Он хватает кисти и делает несколько мазков. Мадам Моризо в восторге. «Вот тут-то и начались мои беды, — рассказывает Берта. — Раз уж он увлекся — ничто не может его остановить; он переходит от юбки к корсажу, от корсажа к голове, от головы к фону. Он шутит, смеется как сумасшедший, отдает мне палитру, потом снова забирает ее; в результате к пяти часам вечера мы сотворили самую красивую карикатуру, какую только можно вообразить. Посыльный уже ждал, чтобы ее унести. Так или иначе, он заставил меня поставить ее на тележку. Я пребываю в полном замешательстве. Моя единственная надежда, что картину не примут. Мама находит всю эту историю смешной; я же нахожу ее душераздирающей».