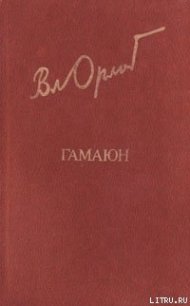Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материала - Немеровская О.
Слишком долго было бы рассказывать здесь, как в комнатах этих отразились и прошли в беседах с Александром Александровичем – «племен минувших договоры» (помню долгие беседы о мировой империи, о Наполеоне, о власти – в связи с мировой войной 1914 года), «плоды наук» (многое часто говорил тогда Александр Александрович об авиации и ее судьбах), «добро и зло» (первый наш «долгий разговор» – о гнозисе времен первохристианства, в связи с идеей символизма) «и предрассудки вековые» (шумным эхом отозвался в наших тихих комнатах пресловутый «процесс Бейлиса») «и гроба тайны роковые, судьба и жизнь».
Иванов-Разумник. Вершины
7 ноября 1912 г.
Вчера вечером позвонил ко мне М. И. Терещенко и приехал. Сидели, говорили, милый. Говорили о разговоре с Л. Андреевым – отказался окончательно субсидировать его журнал («Шиповник»). Андреев поминал обо мне с каким-то особым волнением, говорил, что я стою для него – совершенно отдельно, говорил наизусть мои стихи «Матроса», «Незнакомку», говорил о нелепых отношениях, которые создались с летней встречи (которая для меня совпала, как всегда, с одним из ужаснейших вечеров моей жизни: Сапунов, месяц, Аквариум).
Что меня отваживает от Андреева: 1) боюсь его, потому что он не человек, не личность, а сплав очень мне близких ужасов мистического порядка, 2) эта связь нечеловеческая (через «Жизнь человека»-не человека) ничем внешним не оправдывается, никакая духовная культура не роднит, не поднимает. Андреев – один («одно»), аневсоборе культуры.
1 декабря 1912 г.
Мейерхольд: он говорил много, сказал много значительного, но все сидит в нем этот «применяющийся» человек, как говорит *** – Мейерхольд говорил: я полюбил быт, но иначе подойду к нему, чем Станиславский; я ближе Станиславскому, чем был в период театра Комиссаржевской (до этого я его договорил). – Развил длинную теорию о том, что его мировоззрение, в котором есть много от Гофмана, от «Балаганчика», от Метерлинка – смешали с его техническими приемами режиссера (кукольность), доказывая, что он ближе к Пушкину, т. е. человечности, чем я и многие думают. Это смешение вызвано тем, что в период театра Комиссаржевской ему пришлось поставить целый ряд пьес, в которых подчеркивается кукольность. Театр, – говорит Мейерхольд, – есть игра масок; «игра лиц», как возразил я, или «переживание», как назвал то же самое он – есть по существу то же самое, это только – спор о словах.
Утверждая последнее, Мейерхольд еще раз подтвердил, что ему не важны слова. Я понимаю это, он во многом прав… Таким образом, для меня остается неразрешимым вопрос о двух правдах – Станиславского и Мейерхольда («я – ученик Станиславского», – сказал Мейерхольд, между прочим).
Дневник А. Блока
Часто бывало: зимняя ночь подходит к середине, все давно разошлись из «Сирина», мы вдвоем с Александром Александровичем за стаканами остывающего чая, дымя трубкой и папиросами, заканчивали давно начатый, внешне спутанный, а внутренне цельный клубок долгого спора.
Иванов-Разумник
2 января 1913 г.
Сегодня – оскомина после вчерашних лжей и омута на сердце. Днем – в «Сирине», Ремизов, Разумник, все смута. А. М. Ремизов бранит Брюсова, говорит, что романы его – «просто ничто», хочет хлопотать о том, чтобы издал «Сирин» полное собрание Гиппиус («если уж Брюсова»). Вернулся – письмо от Бори – двенадцать страниц писчей бумаги, все – за Штейнера; красные чернила; все смута.
Дневник А. Блока
1913 год. Издательство «Сирин» – М. И. Терещенко и его сестры – канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, ведь я отдал его последний! – как вы смеялись и после, еще недавно, вспоминая, смеялись.
А. М. Ремизов
С Блоком в эти зимы установились очень близкие отношения.
Он приходил, и мы часто рылись в старых бумагах и если находили стихи, которые приходилось переписывать, Блок отверженно садился и переписывал до конца. Блок уже написал тогда «Розу и Крест». Но вещь обманула мои ожидания. Он мне подробно рассказывал о ней, когда ее задумал. В ней могло быть много пленительности и глубины. Но написанная она оказалась слабее. Блок это знал и со мной о пьесе не заговаривал.
Часто разговаривали по телефону, и речь Блока была еще тогда медлительнее, говорил он долго, с паузами. Мы спорили порою, забывая о разделяющем пространстве, о том, что не видим друг друга. И расставались, – как после свидания.
3. Н. Гиппиус
31 января 1913 г.
Вчера… вечером у А. М. Ремизова читал «Розу и Крест» (Терещенки, Серафима Павловна [90], Зонов. Потому, как относятся, что выражается на лицах, как замечания касаются только мелочей, вижу, что я написал, наконец, настоящее. Все остальное – тяжело, трудно, нервно. Что будет с пьесой дальше, – не знаю.
23 февраля 1913 г.
Вот эсотерическое, чего нельзя говорить людям (одни – заклюют, другие используют для своих позорных публицистических целей). Искусство связано с нравственностью. Это и есть «фраза», проникающая произведение («Роза и Крест», так думаю иногда я).
Дневник А. Блока
Первое, что я хочу подчеркнуть, это то, что «Роза и Крест» не историческая драма. Дело не в том, что действие происходит в южной и северной провинции Франции в начале XIII столетия, а в том, что помещичья жизнь и помещичьи нравы любого века и любого народа ничем не отличаются один от другого. Первые планы, чертежи драмы, в тот период творчества, когда художник собирается в один нервный клубок, не позволяет себе разбрасываться, – все это было, так сказать, внеисторично. История и эпоха пришли на помощь только во второй период, когда художник позволяет себе осматриваться, вспоминать, замечать, когда «распускает» себя.
А. Блок. Роза и Крест (К постановке в Художественном театре)
20 апреля 1913 г.
Посыльный принес необыкновенно милый ответ от К. С. Станиславского. Может быть, он придет завтра слушать «Розу и Крест».
Все утро прождал я К. С. Станиславского. В 1-м часу позвонил он – жар, боится, послал за градусником – будет сидеть дома, может быть, завтра. В 1 час пришел А. М. Ремизов, дал я ему цветной капусты и ветчины.
Поразил меня голос Станиславского (давно не слышанный) даже в телефон. Что-то огромное, густое, «нездешнее», трубный звук.

М. Добужинский. Иллюстрация к драме «Роза и Крест».
1919 г.
Как всегда, вокруг центрального: пока ждал Станиславского, звонок от Зверевой, которая хорошо знает одного из режиссеров студии Художественного театра – Вахтангова. Хочет познакомиться, хочет ставить «Розу и Крест» с «любым художником – Бенуа, Рерих (!!??)». Это через третьи руки, и этот «бабий» голос. Нервный и путает. Нет, решаю так:
Пока не поговорю с Станиславским, ничего не предпринимаю. Если Станиславскому пьеса понравится и он найдет ее театральной, хочу сказать ему твердо, что довольно насмотрелся я на актеров и режиссеров, не даром высидел последние годы в своей мурье, никому не верю, кроме него одного. Если захочет – ставил бы и играл бы сам – Бертрама.
Если коснется пьесы его гений, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как и его положительные дела. Если не хочет сам он, – я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо. Тогда пьесу печатать. А Вахтангов – самая фамилия приводит в ужас.
Буду писать до времени – про себя, хотя бы и пьесы. Современный театр болен параличом – и казенный (Мейерхольд; ведь «Электра» прежде всего – бездарная шумиха). Боюсь всех Мейерхольдов, Гайдебуровых (не видал), Обводных каналов (Зонов не в счет), Немировичей, Бенуа…