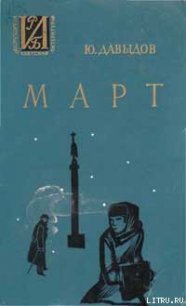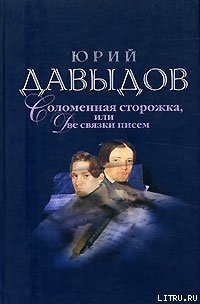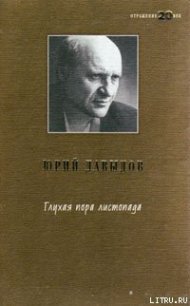Завещаю вам, братья - Давыдов Юрий Владимирович (мир книг TXT) 📗
Редактор мой Бильбасов вернулся от Лориса: «Вот умница! Будем сотрудничать, в унисон с ним будем!» А Бильбасов, надо сказать, не очень-то жаловал вышних сановников, был автором характеристик покрепче царской водки.
Что Бильбасов! Михаила Евграфыча Салтыкова на мякине никто не провел. А и у него будто брови не так насуплены, и он будто помолодел. В руках Лориса, говорит, громадная власть послужит к облегчению общества.
Встречаю Григоровича… (Ваш покорный слуга имел честь быть первым «настоящим» литератором, который приветил Григоровича еще в молодых его летах.) У Григоровича галльские глаза так и блестят: «О-о, Владимир Рафаилыч, у этого Лориса в одном мизинце больше материалу для государственного человека, чем во всех здешних деятелях».
Стали поговаривать о переменах положения ссыльных, о конце произвола, о подчинении Лорису Третьего отделения… Как бы свет разлился… Вот тут, соседом мне, жил некогда Некрасов. По кончине Николая Алексеича квартиру его занял Яблочков, изобретатель. Поселился и устроил у себя электрические свечи. Воссияли необыкновенно! Под окнами, бывало, толпа. Я выходил и тоже любовался. Знакомое, сто раз виденное преображалось. Снег летит такой легкий, такой веселый, в искрах… Вот что-то подобное заманчивое и возникло с приходом Лориса. Какое оживленно, упования какие! Вчера никли во мраке, на всех отблеск зловещих взрывов, а нынче – «погляди в окно». Опять ездят друг к другу, опять собираются.
Помню воскресные утра у Безобразова. Тоже лицейский, но много меня младше. А я его через Маслова узнал. Я рассказывал, как меня, молодца, выпроводили из военной канцелярии и как Маслов, Пушкина однокашник, пригрел в своем департаменте. Безобразов, тоже лицеист, был ему зятем. Безобразов – само трудолюбие, не знаю человека более усидчивого. Он и в «Голосе» сотрудничал постоянно: поставщик солидных статей, финансовых, экономических. Одно время и в Зимний был вхож: учил царских детей…
У Безобразовых, на Троицкой, в воскресное утро полон дом был, ученые мужи, не пустобрехи. Бывал и другой наш лицейский – Константин Степаныч Веселовский. Больше трех десятилетий нес он крест непременного секретаря Академии наук… Племянницу Константина Степаныча я видел дважды: у себя на даче… и на колеснице, в черном капоре, с доской на груди: «Цареубийца»; я ее рядом с Кибальчичем тогда видел – Софью Перовскую. Да, племянницей приходилась она Веселовскому, по материнской линии. Меня всегда удивляет причудливость ветвей, исходящих от одного корня…
На утренних собраниях у Безобразова не жужжали, как в прочих салонах. Там слушали регулярные сообщения: экономика, право, состояние финансов, промышленности – предметы сухие и серьезные. Все желающие приглашались высказаться. Тон задавал Безобразов. У него и приезжие из губерний не чинились. (Нечто похожее пытался учредить министр Валуев: не вышло. Больно любил себя послушать, басистую «музыку» собственной фразистости. Он и на бумаге любил ее – романы выпекал. И добро бы в столе прятал, нет, – выдавал в свет. И всегда это важничал, как спикер.)
У Безобразова появлялась и моя фигура с покрасневшими от недосыпанья глазами. Приходили и молодые чиновники, прикомандированные к Верховной распорядительной. Их лица носили отпечаток озабоченности, сознания выпавшего жребия. Немножечко смешно было: во всем подражали графу Лорису.
Про Михаила Тариелыча толковали, разумеется, много. И главное, с горячим сочувствием. «Хитрый» произносилось тем тоном, каким произносят: «Пьян, да умен – два угодья в нем». Ядовитое и завистливое валуевское: «ближний болярин», «Мишель Первый» – с негодованием отвергалось. Правда, побаивались, что он знает не Россию, а только русского солдата, но тотчас успокаивались: «С таким гибким умом…»
Вообразите отзыв на выстрел Млодецкого! Лорис едва начал, едва приступил, а тут этот юнец, этот мономан! У подъезда и часовые, и городовые, и казаки верхами. А юнец очертя голову… Выстрел… Пуля вырвала клок шинели, разорвала мундир… Кавказский солдат – так граф часто себя называл – хватает террориста за руку: «Для меня еще пуля не отлита!»
Передавали, что граф противился виселице. Положим, и не совсем так, а может, и совсем не так. Млодецкого казнили сутки спустя… Я не мог бы повторить за наследником: «Вот это энергично!» Но и я, как многие, очень многие, поехал на Мойку, в дом Карамзина, где жил Михаил Тариелыч. Поехал, расписался у швейцара, сказал: «Дай бог успехов…»
Нет, подумать только! Человек ничего худого не сделал, – не какой-нибудь там Муравьев-вешатель, а ему пулю в спину! Храбрость Млодецкого? Э-э, есть и такая, что хуже простоты, которая, в свою очередь, хуже воровства. Храбрость храбростью, да надо и о России подумать, вот что я вам скажу.
А перед глазами еще стояли у меня и госпитальная палата на Васильевском, и людные похороны солдат-финляндцев. Тех, что были раздавлены каменными глыбами в Зимнем. Понятно мое расположение духа, когда пришел Александр Дмитрич?
Пока он разбирал бумаги, все во мне кипело. Раздражал и шелест бумаг, и наклон головы, аккуратно подстриженной и аккуратно причесанной, и то, что на нем свежие манжеты, и то, что указательный палец легко, без нажима лежал на ручке с пером, и то, что, закидывая ногу на ногу, он поддергивал брюки и мне был виден каблук, сбитый на сторону. В особенности почему-то бесил этот сбитый каблук.
Едва Михайлов отщелкнул замочки портфелей, как я поднялся из-за стола: «Бессмыслица! Чудовищная нелепость!» Он взглянул на меня своими светлыми, внимательными глазами. «Вы еще спрашиваете! – воскликнул я, хотя Михайлов и слова не молвил. – Вы еще спрашиваете!»
«Владимир Рафаилыч, – произнес он мягко, – прошу вас, не горячитесь». – «Какое, сударь, «не горячитесь»! Впору зубами скрежетать. Являются геростраты из местечка, и пожалуйста… Где чувство ответственности?!»
Он смотрел на меня; глаза его темнели и суживались.
«Хочу предварить вас: партия не повинна в акте Млодецкого. Партия не имела отношения…» Он говорил несколько запинаясь.
«Ах, вот как! «Не имела»! Позвольте, Александр Дмитрич, я не об этом, – и указал на портфель: дескать, вполне допускаю, что бумагу, направляющую террориста к Лорису, не составили. – Но здесь, но в сердце, здесь-то как?»
Он сделал боковой выпад: «Расправой с Млодецким ваш «обновитель» России показал свои зубы. Его нравственность…»
Я оборвал: «Стойте! Чем кумушек считать…»
У него вздулись желваки, так он сжал зубы. II процедил: «Хорошо, давайте оборотимся. Случай с Млодецким, Лориса – в сторону. Давайте попробуем».
«Давно, – говорю, – пора». Перевел дух и сел, всем своим видом показывая готовность выслушать терпеливо.
«Скажите, Владимир Рафаилыч, вы признаете Миля, Джона Стюарта Миля благородным мыслителем признаете ли?»
«Э-э… Миля? Допустим. Но прошу без сократических приемов. Излагайте, я слушаю».
«Да это и не прием вовсе. Я не ритор, говорю, как умею… Начну Милем. Он утверждал: гражданин, убивший человека, который поставил себя выше закона, выше права, – такой гражданин совершил акт величайшей добродетели… Может, и не слово в слово, но смысл точен».
«Не-е-ет, батенька Александр Дмитрич, как раз слово-то в слово, а смысл, простите, несколько иной. Интонация, помню, вопросительная. И Миль прибавил – сие есть серьезнейший вопрос морали. Слышите: серьезнейший и морали! Вы, надеюсь, переросли шальных мальчиков, которые кричали: «Все средства хороши, все дозволено во имя святой цели?»»
«Не все средства, Владимир Рафаилыч, далеко не все. Вернее, так: все, кроме тех, что порочат самое идею».
«А убийство вашу идею не порочит?»
«Убийство убийцы? Я сейчас говорю, Владимир Рафаилыч, о главном виновнике. Тысячи и тысячи убитых там, за Дунаем, на его совести. Десятки виселиц в Польше и здесь, в России, на его совести. Сотни замурованных в каземате и замученных в каторге на его совести. И миллионы мужиков с воробьиным наделом на его совести… Послушайте, мы были б счастливейшие из смертных, когда б могли оставить его в покое. Мы бы, ликуя, сложили оружие, если б он отказался от власти. Но только не в пользу Аничкова дворца, это дудки. Это и было б, как вы давеча сказали, замена одного другим. Ну нет, ты откажись от барм Мономаха в пользу Учредительного собрания! Свободно избранного, всеми, без изъятия… Неужели, Владимир Рафаилыч, вы так далеки, не знаете и не поняли: да нас насильно толкают к насилию! Ведь это как божий день. Бросят на раскаленную сковороду и вопят: «Не смей прыгать!» Пихают в глотку кляп и возмущаются: «Чего корчишься?!» Еще Аввакум недоумевал: «Чудо как в сознание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить!»