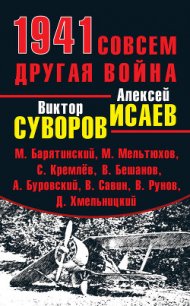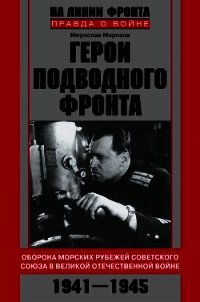Мятежная совесть - Петерсхаген Рудольф (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Меня поместили в камеру на двоих. Хорошо, если останусь один. Я надеялся, что мне дадут какой-нибудь легкий «шоп» – работу на свежем воздухе, как это предписано врачами. Но меня назначили на чистку картофеля. С этого началась моя дальнейшая жизнь в крепости Ландсберг.
Теперь по утрам моя камера открывалась и оставалась открытой до девяти ноль-ноль. Жизнь регулировалась гонгом. Кормили нас в так называемой «кают-компании».
Каждый получал в кухонном окне поднос, миску супа и остальную еду и со всем этим отправлялся в «кают-компанию» – узкое продолговатое помещение. Справа и слева от прохода стояли узкие, покрытые линолеумом столы, за которыми разрешалось садиться только с одной стороны, по шесть человек в ряд. Все должны были смотреть в одном направлении – в затылок впереди сидящего. Надзиратели следили, чтобы места на скамьях не пустовали. Освобождается место – двигайся к соседу. Сидеть полагалось лицом к комнате, где мыли посуду. В мойку посуду сдавали после того, как остатки пищи каждый выбрасывал в бочку.
Эти бочки, как зеркало, отражали некоторые нюансы послевоенной политики.
Вначале было приказано уничтожать все отбросы, даже картофельные очистки, чтобы не раздражать голодающее окрестное население. Потом, когда США избрали себе в военные союзники Бонн, жизнь в тюрьме для военных преступников стала более роскошной. Изменилось и содержимое бочек. Городская беднота жадно набрасывалась на тюремные отбросы. Это омрачало картину «экономического чуда», и на содержимое бочек был наложен строгий запрет. Пришлось завести свиней для использования остатков пищи. Теперь ежемесячно кололи свиней, и питание заключенных снова улучшилось. Специалисты из военных преступников руководили откормом свиней и жаловались на их привередливость.
– Лучше нас не живет ни одна свинья на свете, – нечаянно скаламбурил кто-то за столом и был не так уж неправ: его оговорка соответствовала истине.
У входа в столовую, против мойки, находилось деревянное возвышение, на котором во время концертов располагался оркестр, певцы и другие артисты. За возвышением висел экран. После завтрака, во время которого всегда давали хороший молочный суп, следовал сигнал утренней поверки. Строились по «шопам». Я становился в ряд с работниками кухни как член команды, чистившей картофель.
Для этой работы, кроме обычной спецодежды из тика, выдавались высокие резиновые сапоги. Подвал, где мы чистили картошку, был таким сырым, что ножки наших скамеек всегда были в воде.
«Легкая работа на свежем воздухе» – так предписали врачи. Работа, правда, не трудная, но без движения и воздуха. В сыром нездоровом подвале мы сидели, пригвожденные к своим скамьям, и изо дня в день, по восемь часов подряд, чистили картофель. Нас было пять или шесть человек. Большинство – бывшие кацетники из уголовников, сплошь рецидивисты. Один из них сидел по тюрьмам с восемнадцати лет. Он начал с ограбления и убийства. Затем – каторга, кацет. Став «капо» и эсэсовским убийцей, он попал в Ландсберг. Вот жизненные пути моих «коллег». Судьбы их внешне были очень схожи, но по существу различны. Кроме меня, здесь находился только один заключенный, который не являлся военным преступником, а был осужден Верховной союзнической комиссией по американскому оккупационному статуту. Это молодой хитрый паренек небольшого роста по имени Мюгге. В 1945 году пятнадцати-шестнадцатилетним мальчишкой он помогал зенитчикам. Дома и родных у него не было, и он пристал к одной американской части. Вскоре он стал там полезным и даже необходимым человеком. Парень способный и сообразительный, Мюгге легко научился говорить по-английски. Американцы, любившие погулять и относившиеся к караульной службе как к чему-то крайне обременительному, охотно перепоручали Мюгге свои дежурства. Так он получил американскую форму и с согласия командира части стал нелегальным Джи Ай. Мюгге заменял всех и всюду, и это вполне устраивало командира роты. Частенько, особенно по понедельникам, кто-нибудь оказывался в самоволке, и вместо двухсот человек в строю находилось, допустим, сто девяносто девять. Но с Мюгге, одетым в американскую форму, получалось все те же двести. Командир спокойно докладывал о полном порядке в роте.
«Настоящие Джи Ай еще не то вытворяют», – решил Мюгге и сам себе присвоил звание сержанта армии США. Умножая славу этой страны, он запугивал немцев своей формой цвета хаки, приставлял пистолет и требовал часы. Однажды вечером этот же трюк он решил испытать на одном важном господине в штатском, но попал не по адресу. Вернее, по правильному адресу: он нарвался на американского генерала в гражданском костюме. Случай роковой – Мюгге поймали. Его роскошная жизнь кончилась. Ношение американской формы и дежурства в американской части были квалифицированы, как «шпионаж» и «нанесение ущерба союзным войскам». Волшебная формула оккупационного статута, позволяющая любому событию дать желанный оборот! Бывшие начальники Мюгге вдруг перестали узнавать его. Их даже удивило, что таковой существует. Этот юный авантюрист был единственным «шпионом», которого я встретил в Ландсберге.
В компании рецидивистов проводил я ежедневно по восемь часов, чистя картошку. Никто из них не делал мне ничего плохого. Они работали легко и хорошо, я медленно и неважно. Но они не сердились. Они были рады, что у них появился новый слушатель, и с утра до вечера рассказывали о себе и обо всем на свете, особенно о Ландсберге. После их рассказов я многое увидел в ином свете. Некоторые из этих преступников были жертвами социальных и политических условий. Отец одного налетчика и убийцы в 1933 году попал в концлагерь как член КПГ. Мать послала своего безработного семнадцатилетнего сына на станцию подобрать уголь на путях. Столкновение с железнодорожной полицией. Один из полицейских убит. Молодой парень попал в тюрьму, и жизнь его была загублена. Чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс на будущее, он стал образцовым заключенным кацета. Эсэсовцы растлили его душу, и Альбрехт в конце концов превратился в «капо». Потом он стал эсэсовцем, а в 1945 году за свои дела в лагере был приговорен американцами к смерти.
– Не мы же придумали кацеты. Нас туда заперли, и нам приходилось выполнять приказы. Мы рисковали головой, а господа, которые нами командовали, уже давно на свободе. С нашим братом американцы не очень-то церемонились. Мой процесс длился всего пять минут, и я получил веревку на шею.
О положении в Ландсберге в первые годы после войны они рассказывали без устали:
– Тогда здесь все выглядело иначе. Вот когда жизнь била ключом! Похлеще, чем в кацетах.
– Тогда здесь был настоящий ад! – рассказывал один бывший кацетник. – Высокопоставленные господа были во-от какими маленькими, – он показал крошечную картофелину и зло швырнул ее в угол. – Мне еще повезло – я был уборщиком. Вы бы послушали, как генералы умели просить: «Дорогой камрад, вы не могли бы достать мне то или это?» И я, болван, бегал, высунув язык. А теперь к этим господам не приступись. Они и не смотрят на нас.
– Если кто-нибудь из нас за пачку табака соглашался убирать камеру и чистить сапоги, господа генералы дозволяли нам обращаться к ним. Но только в третьем лице, – с горечью говорил другой кацетник. – Впрочем, любителей лизать задницы здесь хватает и теперь. Таким путем надеются влезть в доверие к американцам.
– Они уже влезли!
– Конечно. А кто брезгует – тот торчит здесь, в этом дерьмовом подвале. И скоро подохнет! – Заключенный так разволновался, что покраснел как рак, вскочил и с криком: «Я не желаю больше чистить картошку для этих сволочей!» выбежал из подвала.
Для остальных это было не ново.
– Кто много пережил и давно сидит, с тем это частенько случается.
Кто-то пошел за ним, иронически произнося:
– Заключенный, ведите себя прилично!
Всех рассмешило это привычное обращение тюремщиков. Только тот, которому оно было адресовано, не мог успокоиться. Он яростно изливал душу, забыв о картошке:
– Когда появились вы, политические, мы вдруг стали хороши для ами. Мы нужны, чтобы в «народном единстве» с высокими господами выступать против «красной швали с Востока». Нет, господа, без меня! – кричал он. – Это они давно умеют – науськивать одних на других. Вот в чем наше несчастье! А теперь, «ласточка из башни», – крикнул он вдруг тому, кто до сих пор молча слушал, – лети, доноси на меня!