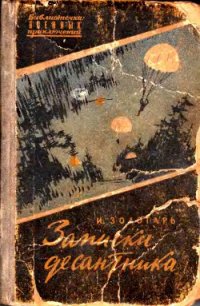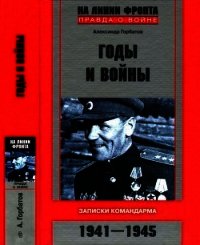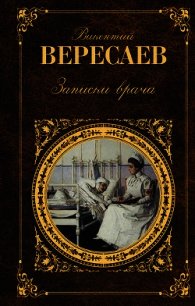Записки пленного офицера - Палий Петр Николаевич (прочитать книгу .TXT) 📗
Я и так был в очень нервном состоянии, а тут эта наглая выходка Шматко подлила масла в огонь — «Слушайте, вы, бывший лейтенант Шматко, а теперь грязная нажравшаяся свинья! Я вам не „эй майор“, а „господин майор“, понятно? И за картошкой можете посылать своих холуев!» — «Тю, да ведь я по-хорошему, по доброте, хотел вам барабольки подкинуть», — видимо, немного сконфузившись, сказал Шматко. «Меня мало интересует, по-хорошему или по-плохому, если это исходит от такого живоглота, как вы! Старайтесь думать не сытым брюхом, а головой, если она еще способна думать!» — рявкнул я в ответ и ушел на двор.
Но для Вундерлиха лапотки все же пришлось сделать, и я получил большую буханку «вольного» пшеничного хлеба. Дал по большому куску Тарасову, Завьялову и Костику, съел сам порядочно и хотел оставить часть на следующий день… но не мог остановиться. Ходил по лагерю и, отщипывая по кусочку, съел всё, хороших полтора фунта свежего, мягкого хлеба… Результат был очень плачевный. Среди ночи я сорвался с нар и, увы, не успел добежать до уборной. Ночью стирал своё белье у колонки, всё думал, что и я падаю все ниже и ниже. Истерика в мастерской, глупая вспышка в бараке. Я разложил свое белье на колоде, а сам сидел рядом, закутавшись в шинель. И на морозе можно сушить бельё, заморозить, потом отморозить в комнате, потом снова повторить операцию — и на третий или четвертый раз бельё сухое. Ко мне подошел дежурный полицейский и, легонько стегнув меня по спине нагайкой, приказал: «Пошел в барак. Нет тебе другого времени стиркой заниматься!» — и он снова чуть сильнее стегнул меня. Я схватился за нагайку, вырвал ее из рук полицая и стал наступать на испуганного и пятившегося, небольшого роста, одетого в ватник парнишку. Картина была, наверно, одновременно и комичная, и страшная: я, полуголый, в распахнутой шипели, с всклокоченными волосами и бородой, длинный, костлявый, с открытым щербатым ртом, хрипло изрыгаюшим отборную площадную ругань, размахивающий нагайкой перед лицом полицая, и он, растерявшийся от неожиданности нападения, отступающий шаг за шагом. Мы были только вдвоем, полицай уперся спиной в стену уборной и, выставив вперед руки, начал меня уговаривать» — «Ладно, ты того, друг, не психуй, это я ведь для порядка, иди, дружок, в барак, успокойся».
Я пришел в себя, отбросил в сторону нагайку, подхватил свое смерзшееся белье и ушел. Около барака я сел прямо в сугроб, и снова у меня начался приступ истерики. Я плакал, смеялся, сморкался, ел снег, вытирал себе лицо пригоршнями снега и снова смеялся.
Целых два дня потом я мучился, всё было страшно неприятно и стыдно перед самим собой. Какой-то неожиданный нервный срыв, истерика, неумение удержать себя от обжорства, грубая ругань, дурацкое заявление — «я для вас господин майор», — совсем как «я тебе господин старший полицейский, понял? Повтори!» Сорвался, совершенно потерял власть над собой. Я твердо решил в будущем не распускаться и держать себя в каких-то человеческих границах…
По именно эти «человеческие границы» в условиях лагерной жизни теряли свои привычные очертания. «Бытие определяет сознание» — этот постулат марксистской социологии проявлялся с каждым днем все ярче и ярче. Бытие было звериное, и сознание следовало за ним. Голодные, злобные, измученные физически и морально, тысячи бывших командиров Красной армии, запертые в вонючие, грязные, завшивленные бараки, терроризируемые полицией, теряли остатки человечности. Умер Женя Афонский, старший нашей комнаты, на его место назначили Тарасова. Вечером 31 декабря Бикаревич пригласил Тарасова и меня «встретить новый год». Там было еще с полдесятка «гостей» по выбору Бикаревича, пришел и полковник Горчаков, живущий теперь в бывшем «генеральском бараке». Угощали нас печеной картошкой и печеной же сахарной свеклой, Бочаров для этого праздника имел порядочно хлеба, курева, и, наконец, был даже кофе, обычный лагерный кофе, но горячий и с сахарином. Настроение было у всех подавленное. Зима еще только началась, холодная, голодная, снежная. Бикаревич был уверен, что скоро начнется настоящая эпидемия голодного сыпного тифа и что тогда немцы объявят карантин, а это значит — полная изоляция от внешнего мира. Горчаков принес сенсационную новость. Америка объявила войну Германии и Италии и теперь воюет на два фронта. Немцы не особенно беспокоятся вступлением Америки в европейскую войну, они уверены, что для Америки значительно важнее ее конфликт с Японией, и пока она сможет как-то проявить себя здесь, на материке, с Англией, Францией и Россией будет покончено. Однако то, что повторяется история 1914-18 годов, т.е. коалиция этих стран против Германии, тогда кайзеровской, а теперь гитлеровской, не сулила, по исторической аналогии, Германии ничего хорошего. Немцы дали, отбой в 12.30, так что ровно в двенадцать мы подняли кружки с кофе и пожелал друг другу дожить до следующего нового года
Вечером 2 января Бочагов сказал мне, что я назначен в команду «гробокопателей». На эту работу назначали в немецкой комендатуре, там велся учет и существовала какая-то очередность. Это было очень неприятно. За лагерем Норд в поле выкашивали общую могилу, метров тридцать в длину и метров пять в ширину. Яму постепенно копали и постепенно заполняли. Эта была уже четвертая по счету. В день «на могилки» вывозили 10-15 человек, на работу обычно назначали человек, тридцать так как земля была замерзшая, яму делали глубокую, в три с половиной метра, а работники были очень малосильные. Работой управляли два полиция, а конвой был почему-то увеличенный — десять солдат. Проходя мимо трех длинных холмиков, некоторые перекрестились. Перекрестился и я. «Вот тут и Борисов, и Овчинников, и Женя Афонский, среди многих», — подумал я, взяв лопату в руки и спускаясь вниз.
Немецкие солдаты стояли поодаль, не вмешиваясь в работу. Распоряжался один из самых отвратительных полицейских во всей лагерной полиции, Бирюгин. Молодой парень с битым оспой лицом, со злыми, узкого монгольского прореза глазами, он принадлежал к тем людям, которые родились злыми и живут в угаре какой-то патологической ненависти ко всем и ко всему. Он был вооружен бычьим … и не жалел ударов, стило только оказаться к нему поближе. Главной мишенью его издевательств почему-то стал маленький, щупленький караим по имени Шапели. Караимов немцы не считали иудеями и не преследовали их, но Бирюгину это было все равно: «Не понимаю, чего немцы нянькаются с тобой? Жид ты обрезанный, хоть караимом называешься! И я тебя, жида пархатого, из той ямы сегодня не выпущу! Тут и подохнешь!» И каждый раз, когда группа, работающая на дне ямы, получала смену, Бирюгин ударами плетки загонял несчастного Шапели снова вниз. Каждый, кто поднимал свой голос в защиту совершенно обессиленного Шапели, получал град ударов. И вдруг, в тот момент, когда Бирюгин опять погнал Шапели вниз, сзади к нему подошел один из конвоиров и сильным ударом в спину сбросил Бирюгина в яму. Бирюгин скатился вниз, вскочил на ноги и, разъяренный, полез наверх, а солдат забрал из рук Шапели лопату, бросил ее Бирюгину и коротко приказал «Работу! ферштеен? Работу!» — Солдат улыбался, а его сотоварищи громко смеялись. Бирюгин что-то начал кричать по-немецки, тогда солдат сам спрыгнул в яму и тихонько ткнул штыком в грудь Бирюгина. — «Работу, полицай, работу!» — Он перестал улыбаться…