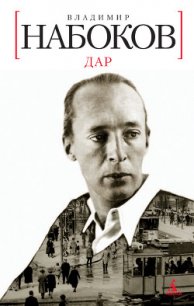Другие берега - Набоков Владимир Владимирович (книги онлайн читать бесплатно txt) 📗
Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде и в особи) мне кажется можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает по моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь!
Старые книги ошибаются, Мир был создан в день отдыха.
В годы младенчества нашего мальчика, в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино, мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы с беспокойством следили, чтобы не наметилось разрыва между вещественными благами в его младенчестве и нашем.
Впрочем, наука выращивания младенцев сделала невероятные успехи: в девять месяцев я, например, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день: и тобою заведенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тщательнее, чем все, что могли бы придумать няньки и бонны нашего детства.
Обобщенный буржуа прежних дней, патер фамилиас прежнего формата, вряд ли бы понял отношение к ребенку со стороны свободного, счастливого и нищего эмигранта. Когда бывало ты поднимала его, напитанного теплой кашицей и важного как идол, и держала его в ожидании рыжка, прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в терпеливости твоего ожидания и в стесненности его насыщенности, преувеличивая и то и другое, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузырек поднимался и лопался, и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца в белые сумерки постельки, Я до сих пор чувствую в кистях рук отзывы той профессиональной сморовки, того движения, когда надо было легко и ловко вжать поручни, чтобы передние колеса коляски, в которой я его катал по улицам, поднялись с асфальта на тротуар. У него сначала был великолепный, мышиного цвета, бельгийский экипажик, с толстыми, чуть ли не автомобильными, шинами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт; этот экипажик плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом: только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие узоры листвы и неба к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. За колымагой последовала более легкая беленькая повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни. Он добирался до борта и с любопытством философа смотрел на выброшенную им подушку, и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах (маль-постике): с первоначально упругих и верных высот ребенок спустился совсем низко и теперь, в полтора года, мог коснуться земли, съезжая с сиденья мальпостика и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздулась новая волна эволюции и опять (начала его поднимать, В два года, на рождение, он полу-чил, серебряной краской выкрашенную, алюминиевую модель гоночного «Мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуарам Курфюрстендама, с насосными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулем, а я бежал сзади, и из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора, бившего себя в грудь, нечленораздельно ораторствовавшего в Неандертальской долине, которую мы с сыном оставили далеко позади, Вместо дурацких и дурных фрейдистических опытов с кукольными домами и куколками в них («Что ж твои родители делают в спальне, Жоржик?»), стоило бы может быть психологам постараться выяснить исторические фазы той страсти, которую дети испытывают к колесам. Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа (какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы развратить). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, все виды жизненности, суть виды скорости, и неудивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в преодолении земной тяги. Но чем бы любовь к колесу ни объяснялась, мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или на другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда. С безграничным оптимизмом он надеялся, что щелкнет семафор, и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же ушастой шапочкой, и то и другое пестроватого коричневого цвета с инеистым оттенком, и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном тепле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти.
Еще есть в каждом ребенке стремление к перелепке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек, У него было больше ста маленьких автомобилей, и он брал то один, то другой с собой в сквер: солнце придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались бридочки его вязаных, темно-синих штанишек (при погружении в вечернюю ванну этот икс бридочек и штанишки были представлены соответствующим узором белизны). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Сердобольные немки принимали меня за безработного. Пресловутый сосновый лес вокруг Груневальдского озера мы посещали редко: слишком в нем было много мусора и отбросов, и не совсем понятно было, кто мог потрудиться принести так далеко эти тяжелые вещи — железную кровать, стоящую посреди прогалины, или разбитый параличом гипсовый бюст под кустом шиповника. Однажды я даже нашел в чаще стенное зеркало, несколько обезображенное, но еще бодрое, прислоненное к стволу и как бы даже льяное от смеси солнца и зелени, пива и шартреза. Может быть эти сюрреалистические вторжения в бюргерские места отдыха были обрывочными пророческими грезами будущих неурядиц и взрывов, вроде той кучи голоз, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. Поближе к озеру в летние воскресенья все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом. В скверах города воспрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговки рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под одобренное правительством солнце прыщавые лбы.
Брезгливое и может быть преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты не только содержала его в идеальной чистоте, но еще научила его сыздетства чистоту эту любить. Нас всегда бесило общепринятое и не лишенное мещанского привкуса мнение, что настоящий мальчик должен ненавидеть мытье.