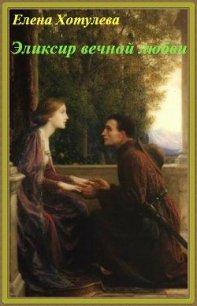Алмазный мой венец - Катаев Валентин Петрович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
надувая, как паруса.
Мы посещали знаменитую первую Сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян, колхозников и единоличников, из всех союзных республик в своих национальных одеждах, в тюбетейках и папахах, оставя павильоны и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная вонь скотных дворов, толпились на берегу разукрашенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким дюралевым «юн-керсом» на водяных лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пестрым табором выставки, то садился на воду, бегущую синей рябью под дряхлым Крымским мостом на том месте, где ныне мы привыкли видеть стальной висячий мост с натянутыми струнами креплений.
«И чего глазеет люд? Эка невидаль – верблюд! Я на «юнкерсе» катался, да и то не удивлялся».
Именно к этому периоду нашего творческого бездействия, изнурительно-медленного созревания гражданского самосознания мне бы хотелось отнести те отрывочные воспоминания о ключике на пороге его зрелости, о его оригинальном мышлении, о его совершенно невероятных метафорах, секрет которых ныне утрачен, как утрачен секрет химического состава неповторимых красок мастеров старинной итальянской живописи, и по сей день не потерявших своей светящейся свежести.
Вероятно, здесь мы имеем дело с физиологическим феноменом: особым устройством механизма запоминания в мозговых клетках ключика, странным образом соединенного с механизмом ассоциативных связей.
Метафора – это, в общем, довольно банальная форма поэтической речи. Кто из писателей не пользовался метафорой! Но метафоры ключика отличаются такой невероятной ассоциативной сложностью, которая уже не в состоянии выдержать собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной простоты.
В жизни он был так же метафоричен, как в своих произведениях.
Уже тяжело больной, на пороге смерти он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок:
– Вы переворачиваете меня, как лодку.
Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком.
Быть может, самая его блестящая и нигде не опубликованная метафора родилась как бы совсем случайно и по самому пустому поводу:
у нас, как у всяких холостяков, завелись две подружки-мещаночки в районе Садовой-Триумфальной, может быть в районе Миусской площади. Одна чуть повыше, другая чуть пониже, но совершенно одинаково одетые в белые батистовые платьица с кружевами, в белых носочках и в белых шляпках с кружевными полями. Одна была «моя», другая – «его».
Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших прежних любовных неудач.
Наши юные подруги были малоразговорчивы, ненавязчиво нежны, нетребовательны, уступчивы и не раздражали нас покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого, возможно, даже и не подозревали.
Иногда они приходили к нам в Мыльников переулок, никогда не опаздывая, и ровно в назначенный час обе появлялись в начале переулка – беленькие и нарядные.
(Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких возлюбленных!)
Однако ключик решил эту стилистическую задачу очень просто.
Однажды, посмотрев в окно на садящееся за крыши солнце, он сказал:
– Сейчас придут флаконы.
Так они у нас и оставались на всю жизнь под кодовым названием флаконы, с маленькой буквы.
По-моему, безукоризненно!
Одно только слово – и все совершенно ясно, вся, так сказать, картина.
На этом можно и остановиться.
Остальные метафоры ключика общеизвестны:
«Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев» – и т. д.
Наконец, неизвестные «голубые глаза огородов».
Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал:
– Можешь щегольнуть длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой, нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов. Непременно эти три волшебных слова как заключительный аккорд. «Голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь. Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть.
Боюсь, что она так и останется как неприкаянная. Но ведь она уже и так, одна, сама по себе произведение искусства и никакого рассказа для нее не надо.
Что же касается классической ветки, полной цветов и листьев, то она нашла место в одном из самых популярных сочинений ключика. Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, вероятнее всего ветка белой акации («…белой акации гроздья душистые вновь аромата полны»), была той неизлечимой душевной болью, которую ключик пронес через всю свою жизнь после измены дружочка, подобно Командору, у которого украли его Джиоконду еще во времена «Облака в штанах».
…тщетные поиски навсегда утраченной первой любви, попытки как-то ее воскресить, найти ей замену…
Конечно, этой заменой не могли стать для нас флаконы, так же незаметно исчезнувшие, как и появившиеся, не оставив после себя никакого следа, даже запаха.
Боже мой, сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получавших, конечно, другие кодовые названия, изобретенные ключиком вместе со мной в Мыльниковом переулке.
Так как это мое сочинение – или, вернее, лекция – не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю, а является продуктом мовизма, придуманного мною в счастливую минуту, то я считаю вполне естественным рассказать в этом месте обо всех изобретенных нами кодовых названиях, облегчавших нам определение разных знакомых женских типов.
Но прежде хочется привести кусочек из письма Пушкина Вяземскому 1823 года из Одессы в Москву. Может быть, это прольет некоторый свет на мовизм, а также на литературный стиль моих сочинений последних десятилетий. Вот что писал Пушкин: