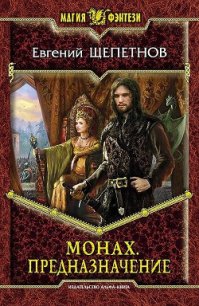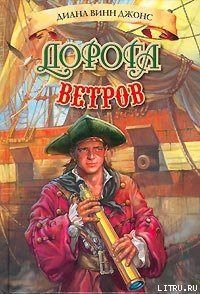Дорога к людям - Кригер Евгений Генрихович (книги без регистрации полные версии TXT, FB2) 📗
На Западе Эмиль встречал очень талантливых музыкантов. Но про себя отмечал, что многим из них свойствен болезненный излом, почитаемый якобы за тонкость восприятия жизни. В действительности это — извращение и неприятие жизни, ее отрицание. Искусство советских музыкантов есть радостное утверждение жизни, жадное любопытство к ней и прямое в ней участие. По-настоящему творить можно только с народом и для народа.
Эмиль это знает. В искусстве он не хочет быть жрецом или шаманом. В искусстве он хочет быть тем, что он есть, — человеком, и человеком в нашем понимании этого слова. Энергия, воля, ясность — вот свойства его натуры. Они проявляются и в музыке.
...Я писал это давно, в тридцатых годах, — писал о молодом Эмиле Гилельсе. Он только начинал тогда свой блистательный путь музыканта. Сегодня его знает весь мир. Он сохранил свою страстную влюбленность в искусство, совершенствуя талант упорным трудом, непрестанным горением чувств. Мне думается, что энтузиазм артиста, энергия и ясность его творчества, мощь его музыкального мышления имеют своим источником нашу жизнь, революционный, творческий подвиг народа.
1967
СЕРГЕЙ ДИКОВСКИЙ
В 1926 году, распрощавшись с Бакинским театральным техникумом, — тогда все, даже театр, связывали с чем-то индустриальным, — я, что называется, очертя голову устремился в Москву, куда раньше уехали мои друзья, будущий режиссер кино Владимир Легошин, книголюб и атлет, ставивший уже тогда вместе с Сергеем Юткевичем фильм «Кружева», а позже — «Белеет парус одинокий», влюбившийся в Сергея Эйзенштейна, носивший подаренную ему мексиканскую шляпу, стетсон, и Александр Шушкин, с кем мечтали мы в Баку работать в цирке, ставить эксцентрические спектакли и участвовать в них с нашими кульбитами и сальто-мортале, с трюками на шестах — першах.
Москва. Холодно. Пиджачок забыт в поезде. Хожу ночами, из-за отсутствия ночлега, от площади трех вокзалов до Белорусского и обратно. Пытаюсь ночевать в существовавших тогда трамвайных павильонах, милиционеры гонят меня. Плохо!
Наконец вспоминаю: на Никольской улице, рядом с рестораном «Славянский базар», живет моя приятельница, сестра Цезаря Куникова, в годы войны на Черном море возглавившего группу десанта под Новороссийском и удостоенного звания Героя Советского Союза посмертно. Лена Куникова и муж ее Володя, добросердечные, терпели меня в одной с ними комнате чуть ли не месяц. Слонялся я по бесконечным коридорам Дома профсоюзов на Москве-реке, добывал крохи. Вспомнив о записке бакинца журналиста Александра Лазебникова, зашел в редакцию газеты МК ВЛКСМ в Столешниковом переулке, к заведующему промышленным отделом Мирону Перельштейну, человеку действительно смелому и сердечному. Вскоре зачислили меня в штат редакции.
На редакционных летучках я приглядывался к худощавому, большеглазому человеку, смеявшемуся в тех случаях, когда нужно быть серьезным, непроницаемо серьезному в те минуты, когда полагалось смеяться.
Это был Сергей Диковский, заведующий литературным отделом молодежной редакции. Однажды он тронул меня за плечо и повел в свою комнату.
— Где это у Тургенева? — спросил он и стал читать отличную прозу — описание лесного пожара.
Я не очень почитал тогда Тургенева, слишком уж прекраснословного по сравнению с Чеховым, но тот отрывок покорил меня силой и точностью изображения бедствия.
— Ну? — ждал Диковский, окончив читать.
— Я... Я не знаю, где это у Тургенева,
— Судя по пожару, это должно бы иметь отношение к «Дыму». Но не имеет. Потому, что это написал сегодня утром я, ваша честь.
Здесь не было похвальбы. Здесь больше было от розыгрыша, шутки, мистификации.
Я привязался к Сергею. Я смешлив по натуре, и мне нравилось, что преобладающим в разговорах, репликах, отзывах, восклицаниях Диковского был жанр юмористический, иронический, саркастический — какой угодно, только не убого серьезный.
Мы ходили по городу, и Сергей однажды долго рассказывал о какой-то бутыли древнего вина, зарытой в землю еще его дедом, и как они с отцом азартно искали бутыль, перерыли весь двор и часть старой улицы и наконец три месяца спустя после начала каждодневного поиска нашли все же заветную дедовскую бутыль.
Там была еще бездна потрясающих подробностей, от которых я уже выл от хохота, и кончилось тем, что бутыль была вскрыта, бокалы приготовлены, но из бутыли вместо сладостного и крепкого, настоянного на времени вина стала капать густая, как деготь, палеонтологическая жидкость.
— Здорово! — восхищался я. — Когда же все это было?
— Этого не было, — сказал Сережа. — Я придумал это сейчас, по ходу действия. Скучно говорить только о том, что было.
Тем не менее Сергей Диковский отнюдь не был и не стал фантастом. Нужно быть Жюль Верном или Уэллсом, чтобы писать настоящую фантастику. Иначе ты обречен на убогое подражательство. Нет, Сергей Диковский великолепно, точно, темпераментно и тонко писал именно о том, что было. Вернее, о том, что могло бы быть в соответствующих обстоятельствах. Землепроходец по натуре и образу жизни, он на многие месяцы пропадал из Москвы, потом приходила открытка откуда-то из Тетюхе — в горах Сихотэ-Алиня, потом месяцы молчания, и новая открытка с предложением начать шахматную партию по почте... Писал Сергей со знанием дела и мастерством чаще всего о смелых и сильных людях, пограничниках, моряках, о японской девушке, ее скудной, «испуганной» жизни, и опять о морских пограничниках на Тихом океане.
Однажды он позвал меня неизвестно куда. Мы оказались в конференц-зале, заполненном начальниками и политработниками погранвойск. Обсуждалась новая повесть Сергея — «Патриоты». После многих комплиментов участники беседы предъявили автору довольно серьезные замечания. Я взбесился, попросил слова и не очень вежливо, запальчиво, вопреки моей вечной застенчивости, заявил, что устав погранслужбы не может быть единственным мерилом ценности произведения, что нарушения его случаются и на практике, не только в литературе.
— Ну, зачем ты! — укорял меня позже Диковский. — Они же правы. У меня в повести приведен действительный пример нарушения Устава. Но незачем было мне вспоминать его в повести.
— Героев идеальных, героев без единой ошибки не бывает.
— Гм. Это верно. Да, да. Нужно быть точным в каждой подробности, вырабатывать у себя, я бы сказал, эстетику точности.
Мы работали уже в «Комсомольской правде». Месяцами не виделись, он — у Тихого океана, я — либо на подводной лодке в Черном море, или на рыболовном траулере «РТ-33» «Форель». Встретились в Ленинграде. Ходили на каток. Не помню, чем занимался Сергей, я же собирал материал о работе стивидоров, о такелажниках, крановщиках Ленинградского торгового порта. Помню название очерка — «Диспатч» и «Деморич», премия за досрочную погрузку или штраф за опоздание против условий договора. Сергею отчего-то понравилась эта вещица, и, встречаясь, мы обменивались репликами:
— Диспатч!
— Деморич! Привет стивидорам!
Однажды Сергей вернулся из Норвегии. О своих поездках всерьез рассказывать не любил, оставлял главное для очерков, для серьезной, мучительной и радостной работы за письменным столом. Мне же, усмехаясь, говорил:
— Понимаешь, скучно стало однажды, хоть Осло — Христиания Гамсуна хороша, а с Питером не сравнишь. Случайно повстречал одну девушку, норвежку. Представляешь, красивая чертовски! Сидим рядом на берегу фьорда... Ты знаешь, что такое фьорд?
— Ага. Это такое, нечто вроде самовара.
— Правильно. Сидим, посматриваем друг на друга. Белая ночь, восторг, одним словом, шепот, робкое дыханье, пенье соловья. Н‑да. Девушка интеллигентная, я вроде тоже, а разговаривать не можем. Она ни слова по-русски, я — по-норвежски. Сошлись на английском. Она спрашивает: «How many houses have your father?»
— Сколько домов имеет ваш батюшка?