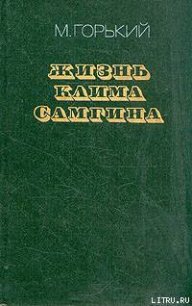Фёдор Шаляпин (Очерк жизни и творчества) - Никулин Лев Вениаминович (читать книги онлайн регистрации txt) 📗
Один русский артист посетил его после концерта и застал одиноким, больным. Он полулежал в кресле с заострившимися чертами лица, в поту от простуды. Теперь он уже не напоминал Алексея Орлова или Алексея Ермолова, как в былые годы, а скорее умирающего графа Безухова, екатерининского вельможу, на смертном одре, каким тот изображен в «Войне и мире».
Но Шаляпин еще жил, это были последние два года его жизни.
В 1910 году старый друг Шаляпина писал о нем, что он — талант русский и должен работать в России и для России, а то, что он делает за границей, есть много мастеров делать и без него.
Упрекал он Шаляпина в том, что артист выступил в беспомощном произведении «Орел». Упрекал артиста и в том, что Шаляпин пел в Монте-Карло для прожигателей жизни, забегающих в оперу между двумя ставками, выигранными или проигранными в рулетку.
На упреки друзей, касающиеся участия артиста в «Дон Кихоте», осмеянной и провалившейся опере, Шаляпин отвечал, что видит слезы на глазах у зрителей и это дает ему высокое удовлетворение.
Слабое это было утешение, но все же участие в опере Массне можно было объяснить страстным желанием создать Рыцаря печального образа. Чем же можно оправдать «Орла» и многое другое?
И в прежнее время здесь же, в Париже, ему случалось поступаться многим, за что он ратовал в оперном искусстве. Он пел Бориса в Парижской опере, и поджарые, подвижные хористы французы мало походили на осанистых и дородных русских бояр. Но тогда он относился к этому, как к комическому эпизоду. Обращаясь к боярам-хористам, он вкладывал в обращение «бояре» чуть заметную иронию, которую понимали только русские, находившиеся в театре.
Полвека служения искусству он предполагал отметить в Париже. Был образован юбилейный комитет под председательством Клода Фаррера, вице-председателем был известный французский актер Саша Гитри.
В глубине души Шаляпин не мог не понимать горькой истины — великий русский артист справляет свой полувековой юбилей на чужбине.
И потому он с живым интересом беседовал с людьми, приезжавшими из Советской страны, особенно со старыми знакомыми, и в беседах с ним всегда поражали умные и глубокие воззрения на задачи и цели искусства, ясное понимание главного — искусство должно служить народу, и особенно такому даровитому народу, как русский. Но по-прежнему в его рассуждениях удивляло противоречие его слов поступкам и то, что разумные и мудрые мысли об искусстве, об эпохе были перемешаны с пустыми и подчас просто смешными, мелочными разговорами о каких-то мнимых обидах, которые он претерпел от каких-то хористов или совсем незначительных сотрудников театрального отдела в Петрограде. Ему было приятно, когда на его концертах присутствовали люди из советской колонии в Париже и Лондоне, Нью-Йорке. Советский инженер, побывавший в командировке в Англии в 1937 году, был на одном из последних концертов Шаляпина. Впечатление было грустное — Шаляпин пел в полупустом зале, публику из дальних рядов просили сесть поближе в пустующие первые ряды. Англичане слушали его скорее с любопытством, чем с восхищением, сохраняя бесстрастное выражение лица. Но были и горячие поклонники русского артиста, иные даже просили советского инженера перевести им по-английски «Вниз по матушке по Волге».
Это был результат воздействия концертов Шаляпина.
В тот год Шаляпин пел в концерте в пользу бастующих горняков Уэльса, об этом тоже следует подумать, когда хочешь понять, что происходило в душе этого человека в последний год его жизни.
Через два года, три месяца и двенадцать дней после смерти Горького смерть навеки закрыла глаза Федору Шаляпину.
Он умирал в тяжелых муках от редкой, почти небывалой в его возрасте болезни — от острого белокровия — и не верил в то, что умирает.
Человек несокрушимого здоровья на седьмом десятке лет умирал мучительной и медленной смертью и завидовал Мазини, который дожил до восьмидесяти лет. Шаляпин хотел жить и увидеть родину.
Жизнь постепенно уходила от него. Все становилось чем-то отдаленным, все становилось далеким воспоминанием — несокрушимое здоровье молодости, дружба великих людей, любовь, слава… Воспоминаниями стали вино и вкус к любимым блюдам, страсть покупать землю, острова, скалы, дома, картины, редкости. Жажда обогащения бросала его из конца в конец света, он видел все материки, все столицы мира, его видели все материки и столицы мира, а теперь вся жизнь, вернее, то, что осталось от нее, сосредоточилась в этих четырех стенах, вернее, на этой кровати, с которой ему уже не суждено было подняться и на которой кончилась его жизнь.
И осталась еще тоска по тем местам, где он был молод, где был весел и счастлив, тоска по волжским далям, по великолепному Большому театру, где безраздельно и по праву царствовал царь искусства, Федор Шаляпин…
Говорят, что его всегда угнетала мысль: певец смертен — произведение искусства вечно. Он, бывало, говорил Горькому:
— Алексей, после тебя останутся книги, останется Максим Горький, а я без голоса кому нужен? А когда помру, вообще ничего не останется.
От Шаляпина дошли до нас, сохранились не одни граммофонные пластинки. Остались созданные им или почти заново созданные образы искусства, и каждый молодой певец, которому доводится петь оперную партию, петую Шаляпиным, ищет и находит людей, слышавших в этой опере «самого Шаляпина», и читает статьи и книги, в которых рассказывается о том, как пел в этой опере «сам Шаляпин» в Москве, в Петербурге, на родине, за границей.
Что бы ни говорил Шаляпин в раздражении, он чувствовал тоску по родной земле и родным людям — иначе он не мог бы подписать свое имя под этими напечатанными в его книге словами: «Милая моя, родная Россия». Он нашел в себе силы ответить смело и прямо на вопрос «жизни артиста»: «Где мой театр?» «…Там, в России». На это хватило искренности и прямоты у «умнейшего мужика».
И еще он мог, чувствуя приближение конца, мечтать о том, что его похоронят на Волге, на крутом холме, близ Ярославля:
Друг Шаляпина, художник Коровин писал, что из-за этих слов в опере «Руслан и Людмила» Шаляпин не хотел петь Руслана: «Руслана бы я пел, но есть место, которого я боюсь».
Забвения, а не смерти боялся Шаляпин.
Он рассказывал свои странные сны. Будто стоит он на сцене Большого театра в венце и бармах Бориса, в золотом царском облачении, и хор поет ему славу, и звонят колокола, а потом он глядит — и вокруг никого нет… В театре, на сцене нет ни одного человека, и даже в оркестре ни души, а он стоит один на краю, у самой рампы, как над пропастью, покинутый всеми, один в пустом, огромном, сверкающем золотом полутемном театре…
И когда глаза остановились на кратком сообщении «Смерть Ф. И. Шаляпина», дрогнуло сердце и вспомнился этот необыкновенный человек, с таким неудержимым весельем, с такой удалью и лукавством запевавший «Вдоль по Питерской»… А потом в ушах долго-звенела удаляющаяся песня бурлаков, затихающая навеки последняя нота «Эй, ухнем».
В годы, когда его духовные и телесные силы были в полном расцвете, Шаляпин позировал для портрета художнику Коровину.
Был летний день, он стоял, освещенный полуденным солнцем. Расстегнув ворот, запрокинув голову, он глядел в облака, проплывающие над верхушками кипарисов. И была высокая гармония в этом сочетании великолепно сотворенного человека и вечной красоты окружающей его природы.
И вдруг Коровин вздохнул и сказал:
— Построить такого человека и потом спихнуть его в яму… Эх, природа — дура!
Вероятно, это очень позабавило Шаляпина — тогда он был молод, счастлив в друзьях, в работе, мысль о смерти не приходила ему в голову «в смысле по-ло-жи-тель-ном».
Как далеко ушли дни, о которых он так проникновенно пел: «О, если б навеки так было…»