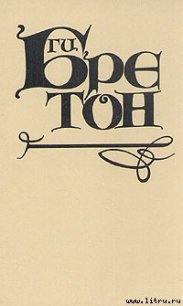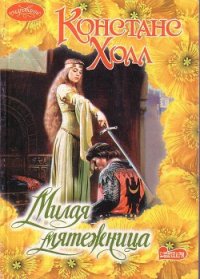От великого Конде до Короля-солнце - Бретон Ги (мир бесплатных книг .txt) 📗
«Переезд» начался тут же. Когда первые стулья полетели в окно, мадам де Монтеспан уложила свой жалкий багаж, села в карету и в слезах, почти тайком, оставила дворец, «где сверкала более чем королева…».
«Она вернулась в Париж, — сообщает невозмутимый Данжо в своем „Дневнике“, — и сказала, что вовсе не собирается покидать двор, что иногда будет встречаться с королем, что, по правде говоря, ее мебель перевезли с излишней поспешностью».
Мадам де Монтеспан могла сколько угодно скрывать свое поражение; у двора не осталось никаких сомнений, что царствование ее окончательно завершилось и что мадам де Ментенон одержала безогорочную победу.
Закрывшись в своей комнате, погрузившись в глубокое кресло с балдахином, закутавшись в шали, шарфы мантилью, «потаскуха» безмолвно наслаждалась триумфом.
Разумеется, она ничем не выдала радости и торжества.
Напротив. Когда несколько месяцев спустя аббатиса монастыря Фонтевро, где нашла убежище мадам де Монтеспан, отправила ей письмо с приветом от бывшей фаворитки, мадам де Ментенон отозвалась елейно-лицемерным посланием:
«Я счастлива получить весточку от мадам де Моитеспан. Я опасалась, что она неверно истолкует мои намерения. Ведает Господь, заслужила ли я подозрения. Мое сердце навеки с ней».
Сидя под балдахином из розового шелка, полу прикрыв черные блестящие глаза, супруга короля держала в руках все нити Версаля.
Однажды, в ходе совета, Людовик XIV сказал ей:
— Пап именуют Ваше святейшество; королей — Ваше величество, принцев — Ваша милость; а вас, мадам, надо было бы называть Ваша твердость.
Очень довольный своей шуткой, он отныне только так и обращался к ней. И можно представить себе, какое выражение появлялось на лицах у иностранных послов, когда король во время официальных приемов поворачивался к мадам де Ментенон со словами:
— Что скажет об этом Ваша твердость?
В конце 1691 года эта женщина, которая занималась решительно всем, постановила, что мадемуазель де Блуа, сестра ее любимого «ребенка», герцога Мэнского, должна выйти замуж за герцога Шартрского, сына Месье и принцессы Пфальцской.
Мадемуазель де Блуа было пятнадцать лет, герцогу Шартрскому — семнадцать.
Этот юноша, которому предстояло стать одним из величайших развратников нашей истории, уже начал свою блистательную карьеру. Правда, ему в этом оказал неоценимую помощь наставник — аббат Дюбуа. Вечером, завернувшись в плащ, достойный священнослужитель отправлялся на поиски молоденьких белошвеек, покладистых горничных или пухленьких прачек, чтобы отвести их в покои своего, ученика.
И юный герцог до рассвета исправно выполнял домашние задания, руководствуясь богатым жизненным опытом воспитателя.
«Уже в тринадцать лет мой сын стал мужчиной, — с гордостью писала Мадам, — его обучила одна знатная дама».
Речь шла о мадам де Вьевиль, чьи наставления не пропали втуне. В пятнадцать лет Филипп, желая поделиться накопленными познаниями с приближенными, заманил в свою спальню тринадцатилетнюю девочку Леонору, дочь привратника в Пале-Рояле. Увы! не овладев еще в должной мере наукой любви, «он излишне затянул момент наивысшего наслаждения, хотя ему следовало подумать о последствиях».
В результате Леонора забеременела.
Рассерженный привратник пришел жаловаться Мадам. Та, расхохотавшись, заявила, что счастлива: сын уже научился преподносить подарки девушкам.
Когда же отец Леоноры сделал попытку возмутиться, она наговорила ему таких вещей, что бедняга был совершенно оглушен. В качестве последнего аргумента он услышал от нее следующее: «если бы его дочь не давала другим надкусывать свой абрикос, то ничего бы и не случилось».
Привратник ушел в ужасе. Он и представить себе не мог, что принцесса способна изъясняться подобным образом.
Однако Мадам ни в чем не походила на обычных принцесс. Эта толстая баварка, дочь курфюрста Пфальцского, разительно отличалась от изящной Генриетты Английской, которую заменила в постели и в сердце Месье.
Свою собственную внешность она описывала с юмором: «Жир мой располагается не самым лучшим образом, что меня не красит. У меня, простите великодушно, задница устрашающих размеров, огромные бедра и плечи, обвислое брюхо, плоские шея и грудь; говоря по правде, я безобразна, но, по счастью, меня это совершенно не волнует…»
А в заключение она добавляет: «Я квадратная, как игральная кость…»
У этой женщины не только бицепсы были, как у грузчика, — она и выражалась соответствующим образом, и король несколько раз делал ей замечания по поводу излишне вольных словечек. Сохранилось любопытное письмо, где она жалуется на «головомойку», полученную от Людовика XIV.
Вот оно:
«Король прислал своего исповедника к моему и закатил мне сегодня утром жуткую головомойку, упрекая в трех прегрешениях. Во-первых, я несдержанна на язык и посмела сказать Монсеньеру дофину, что у него „ни кожи, ни рожи“. Во-вторых, я позволяю своим фрейлинам заводить ухажеров; в-третьих, я шутила с принцессой де Конти по поводу ее ухажеров, и эти три вещи так рассердили короля, что он запретил бы мне появляться при дворе, если бы я не была женой его брата. Я же отвечала: что касается Монсеньера дофина, то я и в самом деле ему это сказала, однако мне всегда казалось, что нет большого греха, если женщина не испытывает влечения к мужчине… А если я говорила откровенно об его… (следуют два слова, которые невозможно цитировать), то здесь вина короля, а вовсе не моя. Он сто раз повторял при мне, что в семейном кругу скрывать нечего. Если он больше так не думает, то надо было меня предупредить…»
Принцесса Пфальцская не только изъяснялась как кучер и писала непристойные письма, но и вела себя чрезвычайно неприлично. Так, она любила принимать друзей, сидя на стульчаке, и вести с ними разговоры, сюжет которых несложно угадать; и в целом «она обожала непристойности, шокирующие общество, к чему, о частности, был очень чувствителен Людовик XIV».
Несмотря на столь вольные манеры, принцесса Пфальцская очень гордилась своим высоким положением и смотрела сверху вниз на прочих придворных. Когда она узнала, что король и мадам де Ментенон собираются женить герцога Шартрского на мадемуазель де Блуа, то впала в ярость и заявила:
— Не желаю, чтобы мой сын вступал в брак с незаконной дочерью шлюхи…
И добавляла с чувством, отчего начинал гневно колыхться ее двойной подбородок:
— Конечно, подобное могла придумать только эта старая задница…
Она имела в виду мадам де Ментенон.
В своем раздражении баварка «надавала тумаков» Месье, который принял предложение короля, а официальное объявление о помолвке завершилось грандиозным скандалом.
Послушаем Сен-Симона: «Ожидая окончания совета, все, как обычно, собрались на галерее, дабы затем сопровождать короля к мессе. Пришла туда и Мадам. Сын приблизился к ней, чтобы по заведенному порядку поцеловать ей руку. В этот момент Мадам вкатила ему такую звучную оплеуху, что было слышно в самых дальних концах, и это в присутствии всего двора! Несчастный принц не знал, куда деваться от стыда, а многочисленные зрители, среди которых был и я, застыли в величайшем изумлении…».
Еще бы!
Брак тем не менее состоялся 18 февраля 1692 года, и будущий регент вскоре убедился, что супруга совершенно не заслуживает полученной им пощечины.
Болезненно тщеславная, она не желала признавать, что была всего лишь незаконной дочерью короля, и, по забавному определению Сен-Симона, «вела себя, как принцесса крови, даже на стульчике».
Сверх того, она отличалась необыкновенной леностью. «Она всему предпочитала постель и зеркало, — говорит Арсен Уссе, — целыми днями валяясь и прихорашиваясь. Это была самая высокомерная и самая вялая из женщин. Она вставала, чтобы пойти к мессе или навести красоту; затем снова ложилась на диван, откуда ничто не могло ее согнать, разве только наступал час, когда можно было отправляться спать».
Эта леность была столь велика, что герцогиня Шартрская опасалась пылкости мужа. Любовь ее утомляла. Когда вечером Филипп приходил к ней «с династическими намерениями», она отговаривалась головной болью и слабым голосом просила не беспокоить ее.