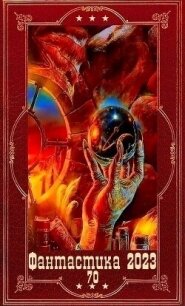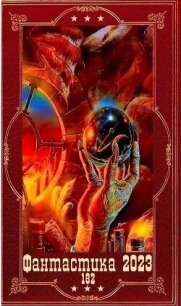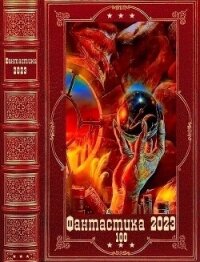Дневник отчаявшегося - Рек-Маллечевен Фридрих (чтение книг txt, fb2) 📗
А тринадцатого числа, в жаркий, прекрасный октябрьский день, меня самого арестовывают.
В шесть часов утра — этот час любят все офицеры ГПУ [242] — я слышу довольно резкий звонок, вижу стоящего внизу нашего душевного жандарма из Зеебрука и слышу его оправдание, что он пришел с неприятным поручением, потому что должен доставить меня в военный изолятор в Траунштайне.
Признаюсь, я был не очень впечатлен. За четыре дня до этого я пропустил так называемую военную перекличку отряда военного ополчения из-за приступа Angina Pectoris [243], но я тут же извинился в мыслимо вежливом тоне перед командованием округа, полагая, что можно поверить военному моряку, который с честью дожил до шестидесяти лет.
Я ошибся. Обманчив палящий осенний день с его веселыми красками, обманчив такт жандарма, граничащий почти что с неловкой предупредительностью. Мы переплавляемся через реку, чтобы добраться до железной дороги, печаль, с которой мои дамы машут мне со двора, вызывает у меня опасения. Через несколько часов я понимаю, что это нечто большее, чем просто тихий свисток полицейского.
Ворота казармы тяжело захлопываются. Между мной и красочным осенним солнцем решетка и боевой караул. Я стою в тусклом, наполненном запахами кожи, пота и противным кожным салом караульном помещении, хозяин которого — молодой швабский сержант — человек с холерическим стремлением к алеманнскому [244] совершенству, которое никогда не кажется подлинным и которое виновато во многом. Я немедленно вызываю дежурного майора. Голос, ледяная злоба которого дрожит даже в телефонных проводах, отвечает мне, что я не должен спрашивать, а должен ждать. Потом я случайно вижу на улице знакомого молодого офицера, который идет через двор с колесом. Я зову его, но уклоняюсь от рукопожатия с замечанием, что ему не разрешается пожимать мне руку, потому что я арестован и поэтому, на старом жаргоне казино императорской русской армии, «у меня вши». Он смеется, пожимает мне руку, по очереди звонит по телефону. Но бледнеет, услышав из трубки хрип, кладет ее, говорит на несколько градусов более формально, что меня обвиняют в «разложении вермахта». Он кланяется и уходит. Я потрясен. За разложением военной мощи страны следует гильотина — гильотина, в которой, как я недавно узнал, единственное преимущество, которое предоставляется провинившемуся перед последним ударом топора, — это блики от тысячи лампочек, а после — бесплатное место в чанах с лизолом в анатомичке. Тем временем наступил вечер, и караулка превратилась в мрачную лачугу. Меня запирают.
Камера в два шага шириной и шесть футов длиной, бетонный гроб с деревянной койкой, непотребный угол грязной плевательницы, маленькое решетчатое окно, установленное высоко, через которое, если забраться на койку, виден скудный клочок неба, двор казармы, павильон с офицерскими помещениями, а за ним — еловый лес. Еловый лес моего дорогого баварского плато, не имеющего ничего общего с бешенством прусского милитаризма. С чумой, захлестнувшей Баварию. Это было окно. На стенах обязательные похабные надписи, расчеты срока, который предстоит отбыть, дни, часы и минуты. Потом целое море советских звезд, нацарапанных на стенах, наводящих на мысль, что здесь была заперта вся Красная армия. И наконец, нацарапанные мелом, возможно, с помощью ключа, лаконичные слова, относящиеся и ко мне: «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Я читаю это, и вокруг сгущается тьма. Это написал тот, кто, как и я, находился в смертельной опасности.
Нет, я не знаю ни одного слова, которое могло бы оправдать это чудовищное подозрение. И все же я замечаю эту ядовитую сущность, которая непременно хочет на меня что-то повесить и сделать из пропущенного призыва дело для палача. Возможно, я смеялся над физиономией партийного какаду. Возможно, какому-то влиятельному лицу на этой земле слишком нравится моя усадьба, а мой нос, мой профиль, обществу не подходят. Я тяжело дышу в своем склепе. Мой сын был ранен и попал в русский плен после нескольких дней службы на фронте, единственный носитель фамилии, кото-рая исчезнет вместе со мной и с ним через 400 лет в четырнадцатом поколении. Он был тихим, несколько флегматичным, но здоровым и красивым парнем. Мужчине моего возраста, переживающему такую потерю, вероятно, следует простить сердечный приступ без «разрушения военной мощи».
Ночь, полная удушья и брутальных звуков военных. Нет, нам, заживо замурованным в стенах, не позволено утешение ночного отдыха. Когда нужно закрыть дверь, с силой захлопывают замок, когда кого-то хотят отвести в вонючую дыру, которую называют туалетом, в коридоре раздается нецензурная брань потревоженного охранника. В три часа металлическими слоновьими ногами топает по полу смена, в половине пятого, хотя мы никому не нужны со своим бодрствованием и никому не вредим своим сном, они кричат «Подъем!» в наши распахнутые двери, хотя после мучительной и бессонной ночи мы только сейчас можем немного поспать.
Я думаю о тех, кто поступил так со мной с дружеским намерением отдать меня в руки палача. О руководителе местной группы, на которого я подал в суд из-за моего пуделя, трусливо задушенного им в капкане, и который хочет отомстить за проигранный иск; о толстяке П., его жене, бывшей кухарке, которая спросила меня в коридоре в прошлом году, знаю ли я уже, что Муссолини пал, и которую я тогда спросил в свою очередь, хорошо осведомленный о ненависти к Италии, а что ее так удивляет…
О домашнем какаду, которого я дважды выгонял за неподобающее поведение, фермере, у которого я забрал арендованное, крайне необходимое мне поле и который пытается удержать его еще немного, умертвив арендодателя. О всех мелких паразитах, которые копошатся в питательной среде государственного кризиса и доносов, убийцах и маленьких убийцах в сознании «полной законности», не подозревая, что эхо моего падения слышно далеко за пределами Германии и что завтра палач может коснуться именно их…
Я не могу сердиться на них, и это осознание утешает меня. Странно, я добился прогресса, а ведь еще десять лет назад строил планы библейской мести. А сегодня? Я знаю, что этой вещи под названием «месть» даже не существует и что все соответствующие библейские отрывки раскрывают древнюю, железную и одновременно космическую мудрость. Месть? Много лет назад я привел в свой дом старого знакомого, пережившего страшное несчастье, и он отблагодарил меня за гостеприимство и кредит, разрушив мой брак. Я избил его так, как только может избить мужчина, выбил все его гнилые зубы и действительно чувствовал облегчение в течение трех дней. А потом? Осознание того, что этого мало. Если бы я решительнее вмешался в пути Господни, если бы я убил его, здравствующего сейчас за счет сожительницы, шьющей мужские платья, я бы помог ему умереть героической смертью, вместо того чтобы продлевать бесславную жизнь. С другой стороны, разве я, заставив плакать стольких людей, когда-нибудь ошибался, не заплатив, пусть даже спустя столько лет? Разве я не знаю, что то, что я испытываю здесь, близость смерти, разлука с близкими, грязь, попытка бесчестья — все это найдет свое искупление и без меня?
Чтобы знать все это, христианство не нужно. Но христианство было необходимо, чтобы придать этому форму, чтобы жить и умереть героически. В 1912 году на английском прибрежном пароходе, вместе со старым китайским интеллигентом, единственным пассажиром, во время вечернего променада по палубе я, как легкомысленный сын вильгельминизма [245], произнес фразу о том, что во всем мире христианство находится в одной великой агонии.
Старик, который был лаосцем и читал лекции по азиатским религиозным наукам в университете Циндао, посмотрел на меня, улыбаясь. Затем спокойно сказал, что христианству еще предстоит справиться с его великой, решающей задачей. Я был глубоко тронут категоричностью его слов. Сегодня, спустя тридцать лет, неся ответственность за многие смертные грехи и пройдя через многие высоты и глубокие долины, я понимаю это по-другому. О да, у христианства по-прежнему великие задачи. Только посреди сегодняшнего сатанизма ему понадобятся вторые катакомбы и вторые горящие факелы Нерона, чтобы помочь духу победить во второй раз.