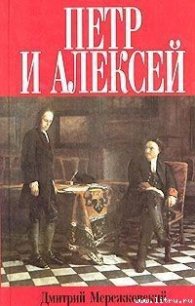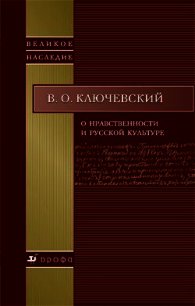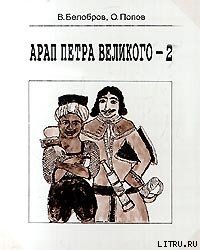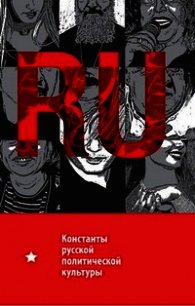Жизнь и творчество - Мережковский Дмитрий Сергеевич (читать книги онлайн без .TXT) 📗
Потусторонний мрак, потусторонняя тайна есть и для него в природе; но это — мрак и тайна, полные лишь отталкивающего ужаса. Иногда и для него внезапно приподымается покров явлений, тот «золотой ковер» дневного света, о котором говорит Тютчев:
Но за этим приподнятым покровом видит Л. Толстой не «живую колесницу мироздания, открыто катящуюся в святилище небес», не «ангелов полет», а лишь бездонно-черную, страшную дыру — «мешок», в который просовывается и все не может просунуться Иван Ильич со своим нечеловеческим криком: «Не хочу-у-у!». И в голосе «ночного ветра» слышится Л. Толстому лишь тот безнадежный шелест сухого чернобыльника в снежной пустыне под вьюгою, который так пугает замерзающего Брехунова в «Хозяине и работнике». А пока дневной покров опущен — все ясно, все явно: он видит природу так, как она есть, и никогда этот «золотой ковер» не становится для него прозрачным, сквозящим, просвечивающим.
Одно из двух: или сон, или явь; или совершенный мрак, или совершенный свет. Но мрак никогда для него не сливается со светом, сон с явью: ни утренней, ни вечерней мглы, заволакивающей природу для Тютчева и Лермонтова «пророческими снами». В отношении Л. Толстого к природе так же, как во всем его столь многоцветном, многозвучном гении — ничего призрачного, сумеречно-звездного, мерцающего, подобного лермонтовским «таинственным сагам» или пифийскому лепету пушкинской Парки — ничего сказочного, волшебного и чудесного.
Мы увидим впоследствии, что один только раз во всем своем огромном творчестве коснулся он этих, казалось бы, навеки недоступных ему пределов, где сверхъестественное граничит с естественным, являясь уже не в нем, а за ним, сквозь него.
Но тут он как бы самого себя преодолел, как бы «вышел из себя». Это именно та чрезмерность, та последняя победа над собственною природою, то кажущееся невозможным чудо, которые суть признаки величайшего гения.
Третья глава
По поводу первых частей «Войны и мира» Флобер писал Тургеневу:
«Благодарю за то, что вы дали мне прочесть роман Толстого. Это нечто перворазрядное! Какой живописец и какой психолог! Первые два тома превосходны, но третий падает ужасно — dégringole affreusement. Он повторяется и философствует! В конце концов виден господин — le monsieur — автор и русский, тогда как до тех пор видны были только Природа и Человечество!»
Отзыв — несколько торопливый и поверхностный. Флобер не столько вникает в свое впечатление, сколько удивляется и даже как будто не вполне доверяет ему: словно не ожидал он такого огромного явления, своего рода художественного Левиафана в полуварварской, неведомой России. «Я вскрикивал от восторга во время чтения, — признается он, — а оно длинно! Да, это сильно, очень сильно!»
Но вот что во всяком случае любопытно. Сразу, с первого же взгляда, заметил Флобер поразительные неровности, «ужасные паденья», соскальзывания, провалы в творчестве Л. Толстого. И в самом деле, невозможно не почувствовать, даже при поверхностном чтении «Войны и мира» и «Анны Карениной», двух складов речи, двух языков, двух течений, которые стремятся рядом, соприкасаясь, но не смешиваясь, как масло с водою.
Так, где изображает он действительность, в особенности животно-стихийного, «душевного» человека, язык отличается такою простотою, силою и точностью, каких русский язык, может быть, никогда и ни у кого не достигал. И если он как будто иногда слишком старается, подчеркивает, упорствует, «пристает к читателю», если, по сравнению с окрыленною легкостью пушкинской прозы, едва касающейся предмета, словно парящей над ним, язык Л. Толстого кажется тяжелым, то это тяжесть и упорство титана, который громоздит глыбы на глыбы. А рядом с этими циклопическими громадами какими изумительными кажутся заостренные и, однако, твердые как алмазные иглы, тонкости чувственных наблюдений!
Но только что начинается отвлеченная психология не «душевного», а духовного человека, размышления, «философствования», по выражению Флобера, «умствования», по выражению самого Л. Толстого — только что дело доходит до нравственных переворотов Безухова, Нехлюдова, Позднышева, Левина, — происходит нечто странное; «il dégringole affreusement» — «он ужасно падает»; язык его как будто сразу истощается, иссякает, изнемогает, бледнеет, обессиливает, хочет и не может, судорожно цепляется за изображаемый предмет и все-таки упускает его, не схватив, как руки человека, разбитого параличом.
Из множества примеров приведу лишь несколько наудачу.
«Какое же может быть заблуждение, — говорит Пьер, — в том, что я желал… сделать добро. И я это сделал хоть плохо, хоть немного, но сделал кое-что для этого, и вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали».
Об отношении к болезни Наташи отца ее графа Ростова и сестры Сони: «Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ежели она не поправится, то он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу… Что бы делала Соня, ежели бы у нее не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи для того, чтобы не пропустить часы, в которые нужно давать пилюли… И даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение».
О лицемерной заботливости жены Ивана Ильича: «Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя, как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно». Вот настоящая загадка. Какое напряжение сообразительности необходимо, чтобы распутать этот грамматический клубок, в котором заключена самая простая мысль!
Другая загадка в том же роде, но еще сложнее и запутаннее: «Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату, — Левин ввел жену в отведенный им нумер».
Это беспомощное топтание все на одном и том же месте, эти ненужные повторения все одних и тех же слов — «для того, чтобы», «вместо того, чтобы», «в том, что то, что» — напоминают шепелявое бормотание болтливого и косноязычного старца Акима. В однообразно заплетающихся и спотыкающихся предложениях — тяжесть бреда. Кажется, что не тот великий художник, который только что с такою потрясающею силою, точностью и простотою речи изображал войну, народные движения, детские игры, охоту, болезни, роды, смерть, — заговорил другим языком, а что это вообще совсем другой человек, иногда странно похожий на Л. Толстого, как двойники бывают похожи, но по существу ему противоположный, его уничтожающий, — что это смиренный старец Аким заговорил после дяди Ерошки «великого язычника».
Попадаются такие нарушения грамматических правил, которые можно бы счесть за случайные описки, если бы не повторялись они столь упорно и часто. Например, в четвертой части «Войны и мира»: «ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого-нибудь не весело». Это «чтобы — могло бы» ошибка, которой не сделал бы гимназист третьего класса, да и все остальные грамматические оплошности Л. Толстого без труда исправил бы учитель русской грамматики. Кажется, что он не обращает на них внимания по преднамеренной небрежности.
Даже та, обыкновенно столь чуткая и требовательная у него, как у всех великих мастеров слова, чувствительность к звуковому построению речи, которую называет Ницше совестью ушей, изменяет ему в этих случаях. У него встречаются такие, например, «бессовестные» сочетания звуков: «муж уж жалок». Нельзя себе представить, чтобы после семи переписок Софьей Андреевной, и, следовательно, после, по крайней мере, сорока или пятидесяти просмотров «Войны и мира» самим Львом Николаевичем, все-таки не заметил он этого безобразно шипящего и жужжащего соприкосновения трех ж. По всей вероятности, оно казалось ему «естественным»: разве в живом разговоре люди заботятся о красивом сочетании звуков?