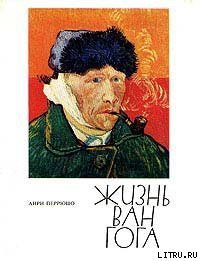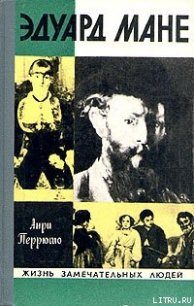Сезанн - Перрюшо Анри (версия книг .TXT) 📗
В первых числах апреля объявили результат совещания жюри. Не зря опасались, что оно будет суровым. Если жюри одобрило картины Моне и Сислея, если оно соизволило взять одно из двух полотен Базиля, впервые рискнувшего отдать себя на его суд, если жюри приняло, правда весьма неохотно, пейзаж Писсарро (Добиньи пришлось изрядно поломать копья за него), то оно безжалостно отвергло работы Ренуара, Гийеме, Солари, конечно же, Сезанна и Мане, представившего картину «Флейтист».
Гнев громыхает. Выставка отверженных? Сам Добиньи посоветовал Ренуару составить петицию, требующую восстановления этой выставки. Не дожидаясь, пока станут известны результаты совещания, Ренуар, в тревоге за свою участь, отправился к Дворцу промышленности караулить у выхода появление членов жюри; он подошел к Добиньи и, оробев, не решился назвать себя и отрекомендовался другом Ренуара; картина его не прошла. «Ну, чего же вы хотите, „за“ были только мы шестеро, а все остальные — „против“, — пояснил Добиньи. — Скажите вашему другу, чтобы он не падал духом, вещь его имеет большие достоинства». И добавил: «Пусть он составит петицию, требующую восстановления выставки отверженных».
Молодые художники волнуются. Сезанн, неизменный сторонник решительных мер, вероятно с согласия товарищей и очевидно с помощью Золя, берется составить письмо на имя председателя жюри графа Ньюверкерке, генерального директора музеев, сюринтенданта изящных искусств, с требованием восстановить Салон отверженных. Сезанн и его друзья надеются, что такое совершенно небывалое письмо не останется без ответа. Ничего подобного; полное молчание. Граф Ньюверкерке, очевидно, не считает нужным ответить даже отказом; он не желает ронять свое достоинство общением с этими пачкунами, которых отвергло возглавляемое им жюри; в его глазах они, конечно, близки какому-нибудь Милле, от чьих картин — граф этого не скрывает — его воротит: «демократы», «люди, никогда не меняющие белья».
Такое презрительное молчание — самое верное средство разжечь недовольство... и подстегнуть воинственный дух Золя. Почему бы Вильмессану не поручить ему сделать обзор Салона, думает Золя. Он бы напрямик высказал жюри всю правду, изобличил бы пороки этого института, отстоял бы своих друзей, поднял бы страшный шум. Материалом его снабдили бы все: и Сезанн, и Гийеме, и Писсарро. В частности, Гийеме, задетый тем, что в том году работы его не были приняты, рад насолить жюри и берется снабдить Золя точными данными и относительно того, как проводились выборы жюри, и относительно методов его работы. Впереди скандальчик, и еще какой! «Вот это да!» Вильмессан принимает предложение.
19 апреля Золя (под псевдонимом Клод — имя героя «Исповеди») в кратком сообщении, анонсирующем его статью, не стесняясь в выражениях, объявляет, что не замедлит начать кампанию, возбудив «беспощадный процесс» против жюри. Твердо решив высказать «важные и страшные истины», Золя не обольщается: он, конечно, многих восстановит против себя, но «лично для меня будет глубоким наслаждением, — признается он, — очистить свое сердце от накипи гнева». В тог же день — совпадение, безусловно, не случайное — Сезанн обращается к графу Ньюверкерке с повторным посланием, стиль которого до странности напоминает стиль памфлетиста из «Л'Эвенмана»:
«Милостивый государь!
Не так давно я имел честь обратиться к Вам по поводу двух моих картин, которые жюри отклонило.
Так как я до сих пор не получил от Вас ответа, то считаю своим долгом настаивать на причинах, побудивших меня обратиться к Вам. Впрочем, поскольку Вы, несомненно, получили мое письмо, мне нет необходимости повторять те доводы, которые я считал нужным представить на Ваше рассмотрение. Удовольствуюсь тем, что заявлю Вам еще раз, что не могу принять несправедливого суждения собратьев, коих я не уполномочивал выносить мне оценку.
Итак, я пишу Вам, чтобы настоять на своем требовании. Я хочу апеллировать к публике и во что бы то ни стало быть экспонированным. В таком моем желании, насколько мне кажется, нет ничего чрезмерного, и если бы вы спросили всех художников, находящихся в моем положении, они бы все до одного ответили, что не признают жюри и хотят так или иначе принять участие в выставке, двери которой непременно должны быть открыты для всех, кто серьезно работает.
Салон отверженных должен быть восстановлен. Даже если я окажусь там в единственном числе, я страстно хочу одного -пусть все знают, что я больше не желаю, чтобы меня смешивали с господами из жюри так же, как они, по-видимому, не желают, чтобы их смешивали со мною.
Надеюсь, сударь, что Вы соблаговолите нарушить свое молчание. Я полагаю, что каждое пристойное письмо заслуживает ответа».
Ответил ли на сей раз граф Ньюверкерке Сезанну? Возможно. Во всяком случае, на полях сезанновского письма есть пометка, сделанная чьей-то рукой: «Он требует невозможного. Мы видели, сколь несовместима была с достоинством искусства выставка отверженных, и она не будет возобновлена». Золя переходит к нападению. 27—30 апреля, буквально накануне открытия Салона, он публикует беспощадную статью, полную резких выпадов по адресу жюри, этого диковинного ареопага, руководящего судьбами французского искусства. Большинство ареопага составляют равнодушные завистники, художники, чье искусство склеротично, «чья жалкая манера письма имеет жалкий успех», которые, «держа этот успех в зубах, грозно рычат на каждого приближающегося к ним собрата». «Они четвертуют искусство и показывают публике лишь изуродованный труп его». «Умоляю всех моих собратьев, — пишет в заключение Золя, — присоединиться ко мне, так как я хотел бы усилить свой голос, стать всемогущим, дабы заставить снова открыть эти залы, куда публика, в свою очередь, пришла бы судить и судей и осужденных». 4 мая Золя продолжает обличения и, сплавив воедино собственные воззрения с воззрениями друзей, в частности Сезанна, обнародует свои взгляды на искусство. Подробно развивая их, он восклицает: «Мы живем в век борьбы и потрясений, у нас есть свои таланты и свои гении», но что до того верховным жрецам Салона? Салон продолжает оставаться «скопищем посредственностей»: в нем две тысячи картин, а людей не наберется и десятка.