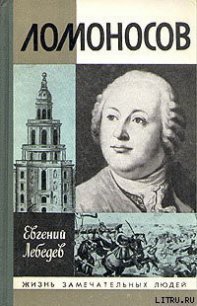Реквием (СИ) - Единак Евгений Николаевич (лучшие книги .txt) 📗
Будучи взрослым, я никогда не вынашивал мысли стать писателем, тем более представить на суд читателя исповедь моей жизни. Подтолкнул меня на эту неблагодарную и одновременно благословенную стезю мой младший — Женя. Сейчас он живет на противоположной стороне планеты. Разговаривая по скайпу, мы проводим сейчас гораздо больше времени в душевном общении, чем тогда, когда он жил рядом.
Однажды Женя сказал:
— Папа, у моего сына родным будет английский язык. Но дома мы постоянно общаемся на русском и молдавском. Так нам советуют в садике. Надеюсь, что и читать он будет на русском. Ясно, что его родина будет уже тут, в Канаде. Но я хочу, чтобы он знал свои корни, чувствовал, чем жили и дышали его предки.
Помолчав, он добавил:
— Отсканируй все фотографии из елизаветовских фотоальбомов и опиши, насколько для тебя будет возможным, времена твоего детства, село, родственников, дух того времени. Опиши то, о чем рассказывал нам ты и баба Аня.
Фотографии я до сих пор не отсканировал и, естественно, не отправил.
Я начал писать. Уходя на работу, я с нетерпением жду возможности вечером сесть за ноутбук и коснуться клавиш. Воспоминания накатывают снежным комом, мне хочется ничего не забыть. Но память не безразмерна. Да и не мог я знать во всех подробностях жизнь моих односельчан. При написании отдельных глав, бывает, я часами общаюсь по телефону и скайпу со старшими односельчанами, потомками многих моих земляков в Елизаветовке, Бельцах, Кишиневе, Москве, Владивостоке…
Вспоминаю и пишу. Сами воспоминания оказывают на меня два совершенно противоположных действия. Переносясь более чем на полвека назад, у меня часто возникает иллюзия освобождения от скверны взрослой жизни, которая сопровождает любого из нас. Потому, что такова, к сожалению, непростая суть человеческого существования.
Одновременно, после моего очередного путешествия во времена моего детства, поздним вечером, когда я ложусь спать, ко мне все чаще подкрадывается и по-хозяйски укладывается рядом, плотно обняв, незваная любовница — бессонница. Я стараюсь не сопротивляться ей: не считаю до тысячи, не пью снотворное. Не завожу спасительные старые родительские настенные часы. Я просто вспоминаю. Вспоминаю запахи меда, прополиса и сгоревшего в дымаре разнотравья, исходящие вечером от отца. Вспоминаю мамины, не знающие покоя, вечно занятые руки. Вспоминаю высокое небо, которое бывает бирюзовым только во времена беззаботного детства.
Ностальгия никогда не делится, как в математике на два, три и более. Ностальгия всегда бывает одна на одного. У каждого она своя. Это — как каждый умирает в одиночку. Моя ностальгия делает мысли ясными, воспоминания более подробными и красочными. Моя ностальгия отметает всю шелуху, прошлые обиды и неудовлетворенность.
В общении с бессонницей, воспоминаниями и ностальгией я чувствую, как за мою грудину медленно заползает и обхватывает грудь изнутри мягкая, пушистая, но сильная лапа. Я, грешен, признаюсь, что в такие минуты начинаю ждать поднимающегося к горлу ощущения застрявшей в пищеводе крупной, сильно шероховатой сухой персиковой косточки. В миру все это зовется стенокардией.
Я не пугаюсь — наоборот. В таких случаях я вскакиваю, усаживаюсь за ноутбук и выплескиваю из памяти на голубоватый экран осколки прошлого, пытаясь собрать их воедино.
В голове полная ясность, пишется легко и свободно. Такие абзацы и страницы в большинстве случаев избавлены от будущей правки. В конце, когда ставлю точку, как правило, не могу определить, когда именно отпустило в груди.
Нажимаю клавишу и, написанное мной, через несколько секунд уже читает Женя. Один раз он сказал:
— Знаешь, читая вот эту страницу, кажется, что твои пальцы не нажимали клавиши ноутбука, а, глубоко вдавливаясь, отрывисто стучали по ним.
Мне возразить нечем.
Вдоль по памяти
Память
Вдоль по улочкам памяти
Я брожу наугад…
Приближение старости
или путь в райский сад?
Суть человека такова, что память его никогда не бывает полной, сквозной. Психике человека свойственна самозащита от перегрузки информацией. Большинство событий вытесняется в бессознательное и в памяти остаются лишь эпизодические воспоминания, несущие в себе нагрузку актуальности конкретного периода жизни. У каждого актуальность своя.
Лев Николаевич Толстой помнил себя с младенческого возраста. На то и Толстой.
Работая психотерапевтом, мне часто приходилось расспрашивать пациентов о наиболее значимых событиях детства, психотравмах. Одни помнят себя с 2-3-4-х летнего возраста, а другие не помнят даже таких веховых событий, как, например, первое сентября в первом классе.
Самыми ранними воспоминаниями я делился с родителями. Они, помня эти события, довольно точно определяли период и мой возраст. Первым событием, вырванным памятью из прошлого было мое пребывание в доме у бабы Софии до того, как она была репресcирована летом 1949 года.
Бабушка жила в нижней части села, как говорили «на долине», в доме второго мужа Иосифа Кордибановского (на польский манер — Юсько). Мой родной дед Иван умер в 1919 году от тифа, оставив в числе шестерых детей и моего отца в возрасте 8 — 9 месяцев.
Деду Юське еще в молодости конной соломорезкой отрезало обе руки. Вместо правой руки сельский умелец из изогнутой как в локте ветки соорудил руку с тремя веточками-пальцами, в развилку которых бабушка, в зависимости от надобности, вставляла ложку либо зажженную самокрутку.
Я боялся его деревянной руки, хотя дед по натуре был добрый. Почти всегда он носил в кармане, по рассказам моей мамы, конфеты-подушечки с налипшей табачной пылью.
Отчетливо помню комнату в доме деда Юська с большой русской печью, в которой зимой почти всегда горел огонь. Напротив печки — широкая темная лавка, на которой стояло ведро с водой. Над лавкой в стене торчали гонтали (большие гвозди) для верхней одежды. Ниже гонталей кнопками прикреплен красный плакат с мужчиной во весь рост и кочергой в руках (наверное, металлург). Плакат предохранял одежду от известки, которая легко пачкала все, включая мои руки.
Правее лавки находилась темно-коричневая дверь, покрытая сплошь воздушными пузырями отслоившейся краски. Мне очень нравилось нажимать на пузыри пальцем. Некоторые пузыри при надавливании издавали тихий треск. При медленном надавливании пузыри выползали из-под пальца и казались живыми. На двери висел большой черный крюк. При открывании и закрывании крюк мерно хлопал по двери, выбив со временем глубокую полукруглую борозду.
С этим крюком у меня связано воспоминание, о котором хочу рассказать. Среди зимы баба София в одном капоте (халате) вышла во двор за очередной порцией палок подсолнечника для подбрасывания в печь. Я влез на табуретку и навесил крюк, как это делали взрослые после ухода вечерних гостей, отрезав бабушке путь в дом.
Ни стук в дверь, ни ее просьбы не могли заставить меня сообразить, что надо снова встать на табурет и снять крюк. Печь ярко горела, угли потрескивали, а баба, как рассказывала потом, переживала за меня, едва не сходила с ума, не говоря о том, что окоченела на морозе. На ее крик поспешили соседи справа и слева: Марко Ткачук и Костек — Константин Адамчук. Плоским немецким штыком через щель выбили крюк из кольца и открыли дверь.
Поскольку я родился в августе 46-го, значит, тогда мне было около двух с половиной лет. Если эпизод с крюком мог быть поддержан в моей памяти воспоминаниями бабы Софии после возвращения из депортации, то печка, лавка, плакат и пузыри на двери отпечатались в детской памяти без посторонней помощи, без наведенных и поддерживающих воспоминаний. Летом этого же 49-го года старики были высланы в Сибирь на Ишим и в этом доме я больше никогда не был.