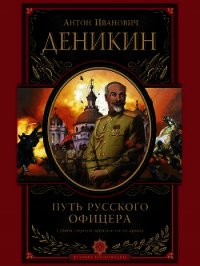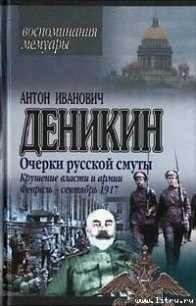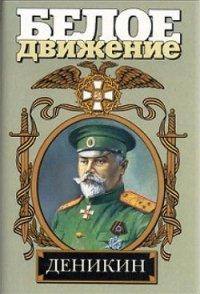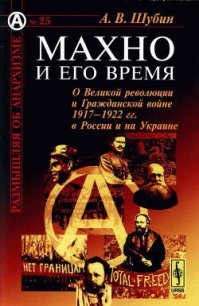Путь русского офицера - Деникин Антон Иванович (бесплатные полные книги txt) 📗
В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался… молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.
Однажды мать бросила упрек:
— В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит…
В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба — мать и я — стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.
Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.
Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец — никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден… Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других… Что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна… Что нет коньков — обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора… Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны… Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали… И мало ли еще что.
Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же — ерунда. Выйду в офицеры — будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день…
Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду — это когда, благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший), учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный бал и я скатился вниз по ученическому списку.
И еще один раз… Мальчишкой лет 6—7-ми в затрапезном платьишке, босиком я играл с ребятишками на улице, возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса, Капустянский и, по обыкновению, давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:
— Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!
Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.
— Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!
Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал — куда деваться, как извиниться.
Русско-польские отношения
Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» — в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление. Ничего подобного не было. Я рос — по тесноте нашей — среди больших, много слышал, много видел, что нужно и ненужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.
Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.
И так, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать — по-польски, я же — не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции — с отцом — по-русски, с матерью — по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось вращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.
Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С 9-ти лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал шестопсалмие и апостола.
Иногда ходил с матерью в костел на майские службы — но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все свое, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.
Иногда польско-русская распря доносилась извне…
В нашем городке под Пасху, в страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев — у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти…
Однажды — мне было тогда лет девять — мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался — в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец, сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости… Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его»… Власть в Привислянском Крае была в то время (80-е годы) крутая, и «попытка к совращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило.
Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.
На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я, по какому-то внутреннему побуждению, больше в костел не ходил.
Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реальном училище, где я учился (1882—1889), дело обстояло так: Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски-то говоривший с большим акцентом. В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера[ 2].
Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.
Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами — в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»…
2
В 1905 г. вышел указ: преподавание польского языка и Закона Божия должно производиться на польском языке; во внеурочное время разрешено пользоваться «природным языком».