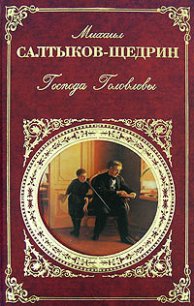Салтыков-Щедрин - Тюнькин Константин Иванович (читать книги бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
Серьезный умственный труд — вот чего он жаждет, а такая жажда не может быть утолена тем трудом, в который уходят сейчас все силы ума, — часто трудом поистине каторжным — делового человека, чуть ли не идеального чиновника. Провинциальная жизнь, о, для молодого человека ты хуже смерти!
Существование становится все более безрадостным: уже нет сочувствия, добрых отношений и понимания, всего того, что он встречал со стороны старого губернатора. Новый, прибывший в середине лета, Николай Николаевич Семенов — человек приятный, даже кроткий — до слабости, но далекий от каких-либо «идей», даже бюрократических. Резкий в суждениях, самостоятельный, чуждый какого-либо подобострастия, Салтыков явно пришелся не по вкусу новым начальникам, да и он их не жаловал.
Может быть, Салтыков попытался, пользуясь не столько сочувствием, как это было при Середе, сколько губернаторской бесхарактерностью, внушить Николаю Николаевичу свое, «либеральное» понимание службы, но, конечно, в этом не успел. «Губернаторский нос» не поддавался «вождению», и даже не потому, что губернатор был активным противником салтыковского «либерализма», а просто от нелюбви к каким-либо беспокойствам и переменам... При Семенове Салтыков — просто честный, деловой и добросовестный чиновник, без всяких затей и «идей», заслуживший очередной чин, правда, с опозданием (в апреле 1852 года он стал коллежским асессором).
В конце апреля 1852 года исполнилось четыре года с того дня, как почтовая тройка увезла его из Петербурга в ссылку. Четыре года! Поистине есть о чем призадуматься «в этот достопамятный день». И в самом деле, не следует ли отдаться на волю божию, покончить с иллюзиями и надеждами. Что-то примирительно-усталое чуется в словах апрельского письма к брату: «...да будет, как велит судьба и звезда моя». Им все более овладевают скука, душевные силы иссякают. Он как будто успокаивается на том, что есть. Обстоятельства, «порядок вещей», служебные и житейские мелочи убивают энергию сопротивления. В этом году он уже не предпринимает попыток освобождения. Чуждый окружающему, но почти с ним смирившийся, он отдаляется от «общества», уходит в себя. Он не в силах преодолеть глухую трагическую зависимость от «железных когтей» фатально сложившихся обстоятельств, он отчаивается порвать опутавшие, связавшие по рукам и ногам цепи. Как оказывается, от его личной воли зависит лишь одно — построить стену между собой и тем миром, который заключил его в свои «непотребные» объятья. Через много лет он с ужасом будет вспоминать и мучиться, будет писать, что он простил все, простил горькую обиду внезапной и жестокой высылки — надругательства над светлыми порываниями юности, простил все эти семь с половиной лет провинциальных скитаний, провинциальной грязи. Но он не мог простить этому «непотребному» миру горчайшей из обид — «обиды примирения».
Настроение мертвящей скуки одолевает, угнетает, подчиняет себе уставшую, «охилевшую» душу. «Ты не поверишь, какая меня одолевает скука в Вятке, — пишет он брату в октябре 1852 года. — Здесь беспрерывно возникают такие сплетни, такое устроено шпионство и гадости, что подлинно рта нельзя раскрыть, чтобы не рассказали о тебе самые нелепые небылицы». Желание избавиться от Вятки не проходит, но выражается как-то вяло и неопределенно: «Хотелось бы хоть куда-нибудь перейти в другое место...»
В чиновничье-обывательском «свете» осенью распространяются какие-то гнусные сплетни, смысл которых для нас скрыт, ибо Салтыков нигде не обмолвился ни об их источнике, ни об их содержании. Вызваны они скорее всего были личными отношениями, может быть, независимостью и нетерпимостью его характера и его поведения, стремлением служить так же, как он служил при прежнем губернаторе, играть роль «советника» не только по должности, может быть, его уже обнаружившейся резко остроумной манерой беспощадного высмеивания, всем тем, что определило потом неприязненное отношение вятских его «приятелей» к «Губернским очеркам» как «сатире на лица». Может быть, были грубо оскорблены чувства Салтыкова к Наталии Николаевне Середе... Может быть... Но, во всяком случае, этими отвратительными слухами вызваны тяжелые строки одного из самых мучительно-искренних писем Салтыкова из Вятки: «Да, провинциальная жизнь великая школа, но школа очень грязная, и я отдал бы половину всей моей остальной жизни, чтобы хоть этою ценою откупиться от этой школы, полной клеветы и оскорблений... Чем больше служишь людям, тем более они будут требовать и, наконец, когда потребуют невозможного, то за неисполнение будут пить кровь до последней капли».
И вновь наступала осень, пятая осень вятского «плена»...
В одиночестве своей комнаты в доме Раша на Вознесенской улице, глядя на слезящиеся окна, он набрасывает проникновенно-личные, лирические, строки будущих «Губернских очерков» («Скука»):
«Скучно! крупные капли дождя стучат в окна моей квартиры; на улице холодно, темно и грязно; осень давно уже вступила в права свои, и какая осень! Безобразная, гнилая, с проницающею насквозь сыростью и вечным туманом, густою пеленою встающим над городом...
Свеча уныло и как-то слепо освещает комнату; обстановка ее бедна и гола: дюжина стульев базарной работы да диван, на котором жутко сидеть, — вот и все».
Перо скользит по бумаге, и ложатся на нее лирические воспоминания о светлых минутах детства, иронические картины провинциального быта, размышления о судьбе мыслящего юноши, заброшенного в провинцию...
«С какою изумительною быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему, потухает огонь любви к добру и ненависти ко лжи и злу! И то, что когда-то казалось и безобразным и гнусным, глядит теперь так гладко и пристойно, как будто все это в порядке вещей, и так ему и быть должно...
Я думал, в кичливом самообольщении, что нет той силы, которая может сломить энергию мысли, энергию воли! И вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения...
О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!»
Где-то в душевных глубинах потрясенной и измученной личности вставал и рос усыпляюще грозный призрак примирения. В минуты одиночества, в минуты тяжелого упадка духа этот призрак, казалось, нес спасение от острой внутренней боли, от отчаяния, может быть — от самоубийства... Все благополучны и веселы, почему же и мне не быть веселым и благополучным, не радоваться тем жизненным мелочам, которые услаждают обывательские сердца?
Но неужели сила обстоятельств столь непреодолима, порядок вещей столь непререкаем?
Примирение было все же лишь призрачным исходом из трагедии существования, и была с этим призраком непрекращающаяся, неустанная борьба.
Избавление от душевных терзаний, пусть недолгое, но успокоение приходили иной раз в многодневных скитальчествах по губернии. Именно эти скитальчества откладывались в памяти светлыми пятнами на темном и мрачном фоне все более постылевшей службы и «веселого общества» в благородном собрании или в вятских гостиных. Дорога успокаивала и умягчала напряженно работавший ум и озлобленное сердце. «Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее время, если притом предстоящие нам переезды неутомительны...» Этим летом побывал Салтыков в уездных городах Орлове и Слободском. В жаркое время спускалась его легкая тележка к веявшей утренней прохладой Вятке-реке, подплывал к берегу паром-дощаник — и вот он уже на другом ярко зеленевшем луговом берегу. Весело бегут маленькие, но ходкие лошадки — вятки-обвенки; поеживаясь от утреннего ветерка, от свежести еще влажных и росных трав, весело помахивает кнутом молодой ямщик и радостно, покойно закутавшемуся в плащ путнику, жадно вдыхающему густой аромат трав и цветов вятской поймы. Из-за лесов, то густых «черных», лиственных, переливавшихся всеми оттенками зеленого, цвета, то хвойных — сизо-зеленых, еловых, золотисто-янтарных боровых, сосновых, из-за холмов и перелесков встает навстречу сначала туманное, а потом — ясное, радостное солнце. Проходил день, и солнце, свершив свой путь по небосклону, скрывалось все за теми же огромными, неисходными вятскими лесами. Шла глубокая, таинственная, безмолвная ночь — с наслаждением предчувствовалась остановка на ночевку в одном из разбросанных в лесах, по берегам рек, речушек и стариц, «починков» — группы домов и служб, часто под одной крышей, принадлежащих большой семье русских поселенцев; а то и в «вотской» деревне, где дома стояли общей грудой, без всякого порядка...