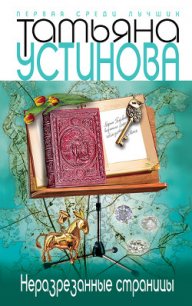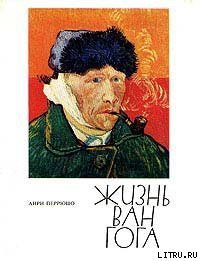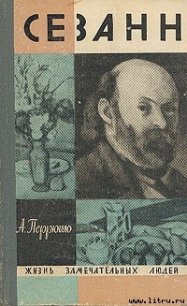Эдуард Мане - Перрюшо Анри (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
27 апреля Золя открывает кампанию страстным обвинением по адресу жюри. С тридцатого числа начинает с восторгом говорить об искусстве Мане, заявляя, что «придает мало значения всей этой рисовой пудре из запасов г-на Кабанеля». В те дни, когда открывается Салон, когда возникают новые манифестации, когда перед Дворцом промышленности происходят стычки между «отвергнутыми» и полицией, Золя умножает похвалы Мане. «Наши отцы смеялись над г-ном Курбе, а сейчас мы им восхищаемся 168, — пишет он 4 мая. — Мы смеемся над г-ном Мане, a вот наши сыновья будут восхищаться его полотнами. Я не берусь конкурировать с Нострадамусом, но меня так и подмывает объявить, что это странное событие произойдет в ближайшее время». Развивая наступление, он спустя три дня публикует об авторе «Олимпии» целую статью в крайне вызывающем тоне:
«Прежде чем говорить о тех, кого могут видеть все, о тех, кто при ярком свете дня выставляет напоказ свою посредственность, я считаю своим долгом посвятить самое большое место тому, чьи произведения произвольно отвергли, кого сочли недостойным фигурировать среди полутора или двух тысяч бездарей, принятых в Салоне с распростертыми объятиями...
Насколько мне кажется, я первый так безоговорочно хвалю г-на Мане. Это происходит потому, что меня весьма мало интересуют все эти картиночки, предназначенные для украшения будуара.
Ко мне подходят на улице со словами: «Вы ведь говорите все это не всерьез, не так ли? Вы сами едва успели войти в роль художественного критика. И тут же начинаете сыпать парадоксами...» Я настолько уверен, что г-н Мане станет одним из наставников будущего, что, имей я состояние, я обделал бы великолепное дельце, скупив теперь же все его картины. Через десять лет они будут продаваться в пятнадцать или двадцать раз дороже, а вот кое-какие картины, за которые сегодня дают 40 тысяч франков, не будут стоить тогда и сорока... Вам известно, какой эффект производят в Салоне полотна г-на Мане. Они просто проламывают стену! Вокруг них выставлены эдакие кондитерские сласти, изготовленные руками модных художников, — деревья из леденцов, дома из мармелада...
Г-ну Мане уже обеспечено место в Лувре, — говорит в заключение Золя, — так же как Курбе, как каждому художнику, обладающему сильным и оригинальным темпераментом... Я постарался указать то место, которое принадлежит г-ну Мане, место среди первых. Возможно, над панегиристом будут так же смеяться, как смеялись над живописцем. Но наступит день, когда мы оба будем отомщены. Есть одна вечная истина, которая поддерживает меня на поприще критика, а именно: только одни темпераменты живут и властвуют над веками. Невозможно — поймите, невозможно, — чтобы для г-на Мане не наступил день триумфа, чтобы он не раздавил трусливую посредственность, его окружающую».
Эта резко полемичная апология вызывает негодование читателей «L'Evenement» — они адресуют редакции мстительные письма, и хуже того — отказываются от подписки. «Народ протестует, подписчики раздражены...» — констатирует Золя 11 мая. Он должен уступить. Двадцатого мая публикует последнюю статью своего «Салона» и вскоре издает его отдельной брошюрой. Битва продолжается. «Банда Мане» не позволяет замалчивать себя.
В кафе Гербуа появляются новые лица. Охарактеризованный Золя как наставник грядущего поколения, Мане видит, что войско его сторонников неуклонно растет. Сколько молодых художников домогаются чести быть ему представленными! Однажды — еврей Камилл Писсарро; в другой раз — провансалец Поль Сезанн, друг детства Золя, неряшливый по виду «рапэн» со взъерошенными волосами; нарочито утрируя свой южный акцент, он твердит, что «Олимпия» открывает «новый этап жжживопиписи».
Есть еще некто, кому очень бы хотелось завязать отношения с Мане: это Клод Моне — автор тех двух марин, с которыми в прошлом году ошибочно поздравляли автора «Олимпии». Но он не решается, зная, как велико было тогда раздражение Мане. В этом году вторично допущенный в Салон Моне экспонирует «Даму в зеленом платье», она пользуется большим успехом. Мане заметил ее, и она ему понравилась. Это становится известно Закари Астрюку. Как-то после полудня он подбивает Моне пойти вместе на улицу Гюйо. «А! Так это вы подписываетесь именем Моне! — восклицает Мане. — Вам везет, молодой человек, успехи сопровождают ваши дебюты в Салоне. — И после секундного молчания: — Ваша „Дама в зеленом платье“ была хороша, но ее слишком высоко повесили. Надо бы взглянуть на нее поближе».
Прием несколько холодный, что не помешает в дальнейшем горячей дружбе...
Во время всей этой суматохи Мане был потрясен ужасной новостью: в начале апреля газеты сообщили о смерти Бодлера. Ложное известие. Но истина ничуть не лучше. Здоровье поэта внушает серьезное, очень серьезное беспокойство.
Всю зиму Бодлер страдает чудовищной невралгией. «У меня не было уверенности даже в двухчасовом отдыхе». Он решается выходить из гостиницы, только обмотав голову «тряпкой, смоченной болеутоляющей жидкостью». Однажды январским вечером он начал, как потом рассказывал сам, «кататься и выделывать кульбиты словно пьяный, цепляясь за мебель и увлекая ее за собой». Как-то в марте в Намюре, осматривая с друзьями церковь Сент-Лу, Бодлер упал на плиточный пол. С этого момента развитие болезни усугубляется. Бодлера отвозят в Брюссель. 28 марта паралич правой части тела приковывает его к постели; речь поэта затруднена. 1 апреля потеря речи становится почти полной: тот, кто некогда был волшебником слова, может теперь, сверкая глазами, повторять только неистовое — «проклятье».
2 июля мать Бодлера и один из братьев Альфреда Стевенса перевозят поэта в Париж. «Проклятье! Проклятье!» — бранится поэт, иногда взрываясь пронзительным, долго не смолкающим хохотом, хохотом леденящим, жестоким. Через два дня Бодлер попадает в гидротерапевтическую клинику Шайо, расположенную на углу улицы Дом и улицы Лористон.
Отныне Мане регулярно посещает комнату, занимаемую больным в первом этаже флигеля в саду лечебного заведения. Он встречает там верных поэту друзей: майора Лежона, Шанфлери, Надара, Теодора де Банвиля, Леконта де Лиля... Опираясь на чью-нибудь руку, Бодлер в состоянии сделать несколько шагов. Пусть слова умерли в нем, но ум, по-видимому, остается неподвластным недугу. Он слушает друзей, забавляется их шутками. Иногда по пятницам Надар забирает его из Шайо и везет позавтракать с Мане и еще кем-нибудь из друзей» 169.
Несомненно, только ради Бодлера Мане остается в Париже на все лето. Он продолжает работать, пишет «Курильщика», несколько натюрмортов и два портрета Сюзанны 170.
Почти одновременно Эдгар де Га тоже пишет портрет Сюзанны: она играет на рояле, позади нее полулежит на диване внимательно слушающий супруг. Де Га дарит это полотно Мане, а он, в свою очередь, совсем недавно презентовал де Га натюрморт «Сливы».
Манера, в которой де Га, этот женоненавистник, написал лицо Сюзанны, не очень нравится Мане. Безжалостно отрезав часть картины, оп оставляет только собственную фигуру. Во время следующего визита де Га видит, что его холст изуродован. Задыхаясь от негодования, он уходит, хлопнув дверью, и, вернувшись домой, немедленно отсылает Мане его натюрморт. «Мсье, — пишет он, — возвращаю ваши „Сливы“...» Мимолетная ссора: спустя несколько недель художники мирятся. В конце концов, он, может, и прав, говорит де Га о Мане, когда же случайно ему напоминают о происшествии, обрывает собеседника: «Кто вам позволил, мсье, судить Мане?» Одно не может его утешить. «Когда я попросил назад „мои“ „Сливы“, выяснилось, что Мане продал их. Ах! как оно было красиво, это полотно! Я перегнул палку в тот день!»
Превосходный пример столкновений, время от времени возникающих между завсегдатаями кафе Гербуа. Различия в их темпераментах и убеждениях неминуемо порождают стычки. Добряк Писсарро, который исповедует социализм, возмущается, когда де Га заявляет, что «неимущим классам искусство отнюдь не требуется и совершенно неуместно отдавать картины по цене в тринадцать су». Со своей стороны, Мане не одобряет — а вместе с ним и де Га, и Фантен-Латур — тех «батиньольцев», кто утверждает, будто для изучения теней и света следует писать прямо на пленэре. По такому методу Клод Моне написал этим летом в Виль-д'Авре большое полотно «Женщины в саду». Мане иронизирует: «Будто старые мастера думали о чем-то подобном!» Но подобные расхождения не мешают единству группы. За размолвками быстро следуют примирения.
168
В Салоне того года Курбе имел необыкновенный успех.
169
Из письма Надара к Мане: «Бодлер неистово требует вас. Отчего вас не было сегодня с нами и с ним? Вы исправите это в следующую пятницу? Ему так не хватает вас, и я был просто потрясен, когда, отправившись искать его, услышал его крики, доносившиеся из глубины сада: „Мане! Мане!“ Это заменило „Проклятье“. Цит. по. A. Tabarant. Manet et ses OEvres. Paris, 1947.
170
От 1866 года известно около пятнадцати холстов.