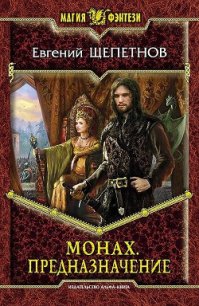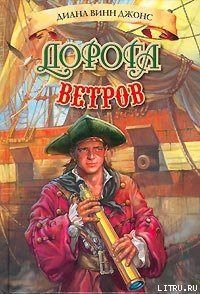Дорога к людям - Кригер Евгений Генрихович (книги без регистрации полные версии TXT, FB2) 📗
Собирался Юрий Карлович написать пьесу или роман о необыкновенной нищете необыкновенного, невиданного нищего, а сам цену деньгам не знал совершенно. Однажды поздно вечером, по звонку приятелей, я зашел в ресторан «Националь». На площадке между первым и вторым этажами сидел в кресле Олеша. Спросил меня:
— Вы наверх, Женя? Мне скучно. Пойду с вами.
Найдя своих знакомых, я подвинул стул Олеше, сел рядом. Компания заканчивала ужин. Графинчики пустые. Увидев перед кем-то бокал с недопитым пивом, автор «Зависти» попросил меня:
— Как-нибудь незаметно подвиньте мне бокал.
— Зачем? — удивился я, подозвал официанта, и тот, хотя ресторан вот-вот закроется, принес две бутылки «Ленинградского». Юрий Карлович выпил полбокала и отставил пиво:
— Превосходное. Жаль, пить больше не хочется.
Что это все значило? Сцена из пьесы «Нищий»? У ее автора нет с собой денег?
— Будьте добры, — подозвал он официанта. — Сколько с нас?
Официант назвал стоимость двух бутылок пива.
— Нет, — досадливо отмахнулся Олеша. — Плачу за весь стол. Очень милые молодые люди! Очень.
Они, и в самом деле милые, в один голос запротестовали:
— Что вы, Юрий Карлович! Мы ведь ужинали, не только пиво пили.
— Самолюбивые, — ворчал Олеша, выходя на Манежную площадь. — Подумаешь — Жюльены Сорели! Я гонорар за сборник получил.
— На что похоже это облако? — спросил, указывая на безоблачное ночное небо.
— На рыбу, — отозвался я, как Полоний.
— На дыру во Вселенной. Нет даже облака. И, знаете, еще на что похоже? На безоблачное ночное небо. Для тех, у кого нет воображения. Вы умеете мечтать? Влюбчивы?
— Очень.
— Я тоже. С детских лет. Вы любили девушку старше вас, когда было вам пять лет?
— Да. Это было на юге в начале века. Марии Юндт было пятнадцать, мне на десять лет меньше. Вы узнали это по себе?
— Да.
Влюбленность в прозе Олеши — всегда открытие, открытие нового, неведомого, страшного и неизбежно-необходимого. Пьеса и спектакль «Три толстяка». Чувство любви героев сказки и для Олеши также — олицетворение воли к свободе, ненависть к поработителям. Убеждения, редко высказывавшиеся писателем прямо, публицистических статей он не писал, почти не писал, лишь изредка, политические же взгляды выражал опять-таки не прямолинейно (хотя иной жизни, нежели при социализме и неустанном движении к строю идеальному, не признавал), а устами своих героев и достаточно для читателя понятно между строк рассказов, повестей, романа, пьес.
Главный герой «Трех толстяков» многолик, это — народ. Оружейник Просперо, канатоходец Тибул, их единоверец и друг свободолюбивый доктор Гаспар Арнери. В пьесе, в спектакле — сарказм над толстыми, олицетворяющими всю жирную накипь старого, еще не уничтоженного мира. Луч в мире света — девочка Суок. Уверенность в конечной победе торжества мира и людей света Юрий Олеша выразил тем, что страшные события и тревоги перемежаются с эпизодами веселыми, и спектакль МХАТа, и в 1935 году воплощавший ту же тему, те же настроения уже в балетном варианте ГАБТ в целом порождали у зрителей чувство оптимизма.
Странно, еще во времена, далекие до старости, Юрий Олеша думал, писал о смерти. Оптимист же! Пылкий. Взрывающийся то гневом, то радостным восклицанием. Легко воспламеняющийся, как многие поляки. А вот — размышлял о смерти. Есть у Олеши рассказ «Лиомпа». Умирает человек в одиночестве. Близость кончины ощущает он в том, что прежде всего уходят от него вещи. Неизлечимо больной лежит в постели. А скудная утварь его уходит. Дешевый гардероб... Столы — и письменный и обеденный — одновременно. Табуретка. Ненужный давно уже графин для вина... Они тут, близко от умирающего, но их нет. Один за другим предметы теряют для него практическое значение. И уходят из его сознания, то есть умирают вместе с ним. Умирают? В том и ужас — они останутся, а он уйдет! Он, их хозяин, уйдет!
При мне Юрий Карлович о смерти не говорил никогда. Уроженец жизнерадостной Одессы, в отрочестве, хоть и ненадолго, футболист, отрок, для которого Кумиром был Сергей Уточкин (отчаянно смелый пилот-самоучка), мальчуган, до слез смеявшийся при виде приключений знаменитого тогда Макса Линдера, — Олеша до конца дней своих влюблен был в жизнь и ненавидел смерть, кому бы она ни угрожала. В одном из рассказов мы видим девчат, водителей тяжелых машин-катков, разглаживающих горячий, только что уложенный асфальт, и эта будничная в общем картина искусством писателя наполняет нас чувством гордости и полноты существования. В другом рассказе молодой человек признается молодой же Леле: он видит несуществующий мир. Она бросила на землю абрикосовую косточку, а перед Шуваловым мгновенно вырастает абрикосовое дерево. Он разговаривает с Исааком Ньютоном. Видит то самое абрикосовое дерево. «Нет, это яблоня», — возражает ученый раздраженно. Что творится с Шуваловым?
— Это от любви, — объясняет Леля, и она права.
Нет ничего дороже и реальней любви. И когда дальтоник, для кого груши — синие, просит взять его радужную оболочку, дать ему взамен любовь к Леле, Шувалов отказывает иронически, — идите покушайте синих груш! Влюбленность побеждает все, как богиня Нике!..
Работал Юрий Карлович и в кинематографии. Хотя Федор Достоевский отрицал возможность перенести его «Идиота» на сцену, это в самом деле чрезвычайно сложно, Олеша создал пьесу по гениальному роману, изложив в коротком по времени киноповествовании события, изложенные Достоевским на сорока печатных листах!.. Это мог сделать лишь человек, кому близок по духу бесконечно добрый, человечный и все же земной князь Лев Мышкин, жертва своей красоты и гордости Настасья Филипповна, самолюбивая, и жалеющая, и презирающая, и влюбленная в князя Аглая Епанчина, — писатель, для кого жалок, отвратителен своей подлостью, достоин лишь уничтожения мир корысти, наживы, жестокости, мертвый со времени своего рождения... Не для экрана создал свой вариант романа Юрий Карлович — для Театра имени Вахтангова. Но в иных сценах одноименного фильма Ивана Пырьева присутствует самый дух, настроение, философское осмысление романа Юрием Олешей.
Юрия Карловича можно было встретить рано утром на улице Москвы. Идет одинокий человек по пустынному еще городу и улыбается. Это редко случается с теми, рядом с кем никого нет. Тем же свойством обладает Виктор Шкловский. Тот и другой умеют беседовать сами с собой. Пришла в голову забавная мысль и материализовалась в улыбку.
Работал Олеша не только за письменным столом. Он работал всегда и везде. На улице записывал карандашом счастливую мысль на обшлаге рукава сорочки. В гостях — на обоях, если не случалось под рукой бумаги. Есть квартиры, где еще можно найти стены с сохранившимися записями Юрия Карловича, хотя память у него была феноменальная, как у Валентина Катаева. И строг к себе Олеша был столь же, как автор повести «Белеет парус одинокий». Иногда Валентин Петрович работает все утро, выйдет из кабинета и, торжествуя, говорит жене своей Эстер:
— Написал две неплохие фразы!
Две!
И еще — умел Юрий Карлович, по словам Шкловското, стремиться к точке, каким бы ни было безмерным его воображение. Многое ценное и редкостное отбрасывал, иначе, способный работать за столом и где бы то ни было, он издал бы не меньше книг, нежели Оноре де Бальзак. Этим Олеша близок Чехову поры его художественной зрелости.
Часто герои Юрия Карловича по духу своему люди будущего. Одаренные и благожелательные, как тот садовник, что у Зощенко вместо выговора или штрафа наказывает нарушителя порядка цветочком в виде презента, или милиционеры Маяковского, раздающие невинно провинившимся апельсины.
...22 июня 1941‑го... Олеша оказывается в пору войны в Ташкенте. Далекий гул сражений слышен ему и там. Может, он тайком плачет. Но верит в победу. Сражается по-своему — работой. Пишет сценарий. Представляет себя солдатом, — вот по сигналу комиссара вскакивает на бруствер траншеи, бежит в сторону атакующих немцев, стреляет, стреляет... Это он, Олеша, такой добрый, человечный, влюбленный в людей. Да, это он. Он способен и ненавидеть — врагов своего народа, нашего строя жизни. Москва, Москва... Снова Олеша за работой. Книга воспоминаний — «Ни дня без строчки». В сущности, это своеобразный роман о детстве, юности, размышлениях зрелого человека... Работу свою он начал в Одессе стихами. Друзьями, даже Эдуардом Багрицким, признан был чуть ли не лучшим среди них. И однажды испытал и успех, и огорчение. Читал стихи уже маститому тогда, хоть и молодому, Алексею Толстому. Тот похвалил. Но, усмехаясь, посетовал на одну неточность, какую, впрочем, я позже заметил в его собственном романе «Сестры».