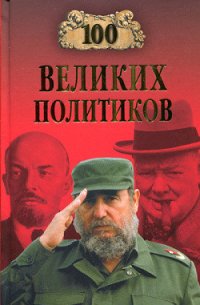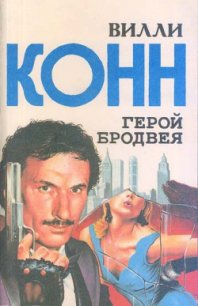Воспоминания - Брандт Вилли (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Итак, добродушные жители Любека хотели, чтобы руководство благословило «преемника Юлиуса Лебера». Лучше бы они этого не говорили. Лебер и Шумахер еще до 33-го года терпеть не могли друг друга. После войны оставшийся в живых кое-что предпринял для того, чтобы имя не побоявшегося смерти не упоминалось слишком часто. Курт Шумахер, отмеченный печатью мученичества, использовал как опору своей власти в партии то подавляющее большинство социал-демократов, которое в 1933 году заняло выжидательную позицию, не приспосабливалось, но и не бунтовало. Они не желали, чтобы им постоянно напоминали о героях Сопротивления. Тем более они не хотели понять, что кто-то мог искать союза с консервативными силами. Вмешался также Андреас Гайк, близкий друг Шумахера, энергичный обер-бургомистр Киля и шеф социал-демократов земли Шлезвиг-Гольштейн. Я слышал, как он сказал, что демократический социализм должен возродиться из нужды и страданий. Стоило ли удивляться, что наши приемники оказались настроенными на разные волны? Под конец моего тринадцатилетнего открытия мира я пришел к противоположному убеждению. А впрочем, мне было грустно. Ибо Любек казался мне теперь несколько провинциальным. Особого желания возвращаться туда не было.
Я объездил вдоль и поперек западные зоны оккупации. В Гейдельберге и в Бад-Наугейме я вел безрезультатные беседы с соответствующими должностными лицами. У меня произошла стычка с американским капитаном, занимавшимся подобными вопросами: я ему показался «чересчур правым». В Гамбурге в редакции «Эхо» я впервые встретился с Гербертом Венером. Предложение Хага Карлетона Грина, контролировавшего агентство ДПД (ставшее впоследствии ДПА), занять пост главного редактора дошло до меня лишь в октябре 1946 года, когда я уже вернулся в Осло и решил пока что остаться на службе у норвежцев в качестве пресс-атташе их посольства в Париже. Это мне предложил министр иностранных дел Хальвард Ланге. Я рассчитывал таким путем попасть в одну из международных организаций, полагая, что смогу быть там полезным одновременно моим обоим отечествам.
Когда в середине октября я зашел в министерство иностранных дел для выяснения кое-каких деталей, Ланге подготовил для меня сюрприз: он и премьер-министр Герхардсен передумали и решили послать меня не в Париж, а в Берлин. Им нужен был надежный человек, который бы постоянно держал их в курсе событий в Германии. Разве я мог колебаться? Ни одной минуты! Единственная загвоздка, если это можно так назвать, состояла в следующем: Норвегия имела в Берлине военную миссию, и мне надо было, даже в качестве пресс-атташе, получить «военно-гражданское» звание. На левом рукаве мундира, который я надевал в Берлине лишь в редких случаях, было написано «Civilian Officer». То, что я настоял на присвоении звания майора, а не, как предполагалось, капитана, было связано с категорией оклада.
Итак, на Рождество 1946 года я с дипломатическим паспортом в кармане тронулся в обратный путь. Он вел через Копенгаген, где я провел четырнадцать дней в ожидании британской въездной визы, Гамбург и далее в город, с которым я на двадцать долгих лет связал свою судьбу, — Берлин. За несколько недель до этого вернулся из турецкой эмиграции Эрнст Рейтер. Я встретился с ним весной 1947 года в доме Аннедоры Лебер в Целендорфе. По-моему, я предчувствовал, что это была жизненно важная встреча. Правда, это никак не было связано с приписываемой мне ориентацией на «духовных отцов».
Норвежская среда в Берлине была приятной, насколько это могло быть приятным в городе, переставшем в тот год быть столицей Германии. Я завязывал и расширял контакты, обзавелся друзьями, среди которых был и Эрнст Леммер, и посылал ежедневно сообщения в Осло. Повседневные дела и драматические новости сменяли друг друга. Это был мой конспект истории возникновения «холодной войны». В мою задачу входило также наблюдение за развитием событий на «другой стороне» и оказание помощи гостям из Норвегии. Так, весной 1947 года я сопровождал какого-то консервативного главного редактора из Осло к председателю СЕПГ Вильгельму Пику, который согласился дать ему интервью. Оно проходило очень скучно: Пик полностью подтвердил свою репутацию «коммунистического Гинденбурга». Но потом норвежец заговорил о концлагерях в советской зоне, которые якобы были «задействованы вновь», и заметил, что социал-демократы, противящиеся приобщению к господствующей там идеологии, попали в те же тюрьмы, в которых они сидели при нацистах. Пик не понял смысла вопроса и простонал: «Да если бы Вы знали, какие письма я получаю от товарищей, у которых исчезли сыновья. Но мы не в состоянии что-либо сделать. Все решают советские власти».
Со своими норвежскими задачами, как этого от меня и ожидали, я справлялся. Но мое внимание было приковано к германским делам, и очень скоро я это осознал. Когда в конце лета у меня появился Эрих Брост из Данцига и предложил мне занять его место в берлинском правлении партии, я был склонен согласиться. Я поехал в Ганновер и обсудил там задачи, которыми мне предстояло заняться с 1 января. Эрих Брост получил лицензию на издание газеты «Вестдейче альгемейне». В начале ноября я доложил Хальварду Ланге, своему начальнику и другу, что хочу посвятить себя политической работе в Германии и отказаться от норвежского гражданства. Ему и другим друзьям в Осло я объяснил, что решился на этот шаг, не питая ни малейших иллюзий, и готов к тому, что в Берлине «потерплю самое большое фиаско в моей жизни. Дело не просто в том, что я будто бы выбрал Германию вместо Норвегии. Мне представляется, что я должен и могу более активно действовать во имя идей, которые я исповедую, и что такие действия необходимы именно в этой стране».
Это стало известно, и тотчас же начались интриги. За два дня до Рождества приехал Брост и рассказал, что в Ганновере возникли сомнения, стоит ли возлагать на меня такую задачу. Я сел и написал Шумахеру несколько откровенных строк, датированных 23 декабря 1947 года: «Позвольте недвусмысленно заявить Вам, что я поддерживаю принципы демократического социализма в целом и политику германской социал-демократии в частности. Я оставляю за собой право в случаях возникновения новых вопросов самому ломать над ними голову. И я никогда не буду наперед говорить „да“ по поводу любой формулировки, даже если она вложена в уста первого человека в партии». Традиции очень важны. Но в почитании традиций никогда нельзя заходить так далеко, чтобы ради этого не признаваться в ошибках и заблуждениях прошлого. «Как же тогда будет происходить внутренний рост партии? И как ей вести успешную борьбу за молодое поколение?» Я напомнил о своем отказе от места у норвежцев и «еще кое от чего», но я никому не навязываюсь и не вижу причины, по которой я должен был бы защищаться.
Письмо возымело действие. В первых числах января 1948 года я — мне было тогда 34 года — вступил в свою новую должность с большим желанием работать и с еще большим оптимизмом, что работать стоит. Я не раздумывал над тем, что меняю довольно удобную жизнь скандинавского гражданина на жизнь берлинца до денежной реформы. Земельное правительство в Киле удовлетворило мою просьбу о возвращении гражданства. Так как я родился в Любеке, это входило в его компетенцию. Одновременно были легализованы имя и фамилия — Вилли Брандт, под которыми я преимущественно действовал с девятнадцати лет и на которые был выписан мой норвежский дипломатический паспорт.
1 июля 1948 года я по всей форме вновь стал германским гражданином. Будущее Германии было покрыто мраком неизвестности.
III. КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА — МИР
Какое единство?
Сколько времени прошло с тех пор, как шведский канцлер Оксенстиэрна спросил своего сына, знает ли он степень той глупости, которая правит миром? Сумма знаний с той поры неизмеримо возросла. А разум? Не ново то, что люди легко и охотно принимают желаемое за действительное. Или же они впадают в самообман, вместо того чтобы смотреть правде в глаза.