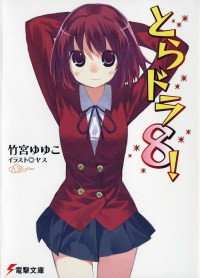Спасибо, сердце! - Утесов Леонид (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
Когда я думаю о писателях-юмористах, которых знал лично, в памяти прежде всего встают две фигуры — Аркадий Аверченко и Михаил Зощенко. И на стене моего рабочего кабинета до сих пор их портреты всегда висят рядом, как хранятся они в моей памяти.
Оба юмористы, но писали о разном и по-разному. И люди были разные.
Зощенко всегда был грустным человеком. И его смех был подобен гоголевскому — он был сквозь слезы. Даже когда он смешно рассказывал о чем-то забавном, в его глазах была грусть. Он скорбел, что люди никак не научатся жить благородно, разумно, красиво, что они постоянно и упорно делают глупости. Он смеялся над ними и верил: его рассказы помогут людям, смогут убедить их, что надо жить иначе.
Есть у него рассказ «Беда»… Крестьянин несколько лет копил деньги на лошадь, два года солому ел — собрал деньги, купил лошадь. Эта покупка — праздник его жизни. Повел он лошадь домой, но радость переполняла его и требовала выхода, надо было с кем-то ее разделить. Он пригласил земляка вспрыснуть покупку, да невзначай и пропил ее. Этот рассказ написан смешно, но грусть ходит в нем подводным течением, и весь он как сожаление о безволии человека, о его неумении обуздывать себя.
Как я узнал Зощенко?
Однажды я ужинал в одном доме. Гостей было много. Устав от шума, я ушел в кабинет хозяина, просто посидеть в одиночестве. На столе лежала небольшая книжонка со странным рисунком на обложке — на нем был изображен полуопрокинутый чайник. И называлась книжка неожиданно: «Аристократка». Я с любопытством начал читать первый рассказ, который тоже назывался «Аристократка». Не помню, смеялся ли я когда-нибудь еще так неудержимо. Дочитав рассказ, я вбежал в столовую и неистовым голосом крикнул:
— Молчите и слушайте!
Общество, которое было уже несколько навеселе, послушно умолкло. Я читал, и все помирали со смеху.
На следующий день я попросил директора «Свободного театра» связать меня с Зощенко, который, как я узнал, жил в Ленинграде.
Это был год двадцать второй. Мы встретились в кафе «Де гурме».
Я увидел человека примерно моего возраста (он был моложе меня на год, значит, ему было тогда двадцать шесть лет). На красивом лице — несколько робкая улыбка и грустные, мягкие глаза. Со свойственной мне горячностью я наговорил ему кучу восторженных слов и тут же попросил разрешения читать его рассказы со сцены. От этого натиска он немного опешил, но читать охотно разрешил. В тот же вечер я прочитал «Аристократку» со сцены «Свободного театра». Это и было началом исполнения советской прозы на эстраде.
С тех пор я не расставался ни с автором, ни с его произведениями: постоянно включал рассказы Зощенко в свой репертуар, в Театре сатиры играл в его пьесе «Уважаемый товарищ». Мы дружили, мы любили друг друга.
Есть друзья, которые ушли, но каждое воспоминание о них туманит взор. Были и у меня такие. Я о них еще напишу. Михаил Михайлович Зощенко — один из лучших.
Сказать, что рассказы Бабеля были мне близки или очень понятны, — это ничего не сказать. Они мне были — как дом родной. Ведь в родном доме не надо думать, что значит тот или иной предмет, кому и для чего он нужен, — он как часть вашего существа. Когда я читал его рассказы, мне казалось, что я сам жил в тех историях, которые он рассказывал. Да ведь так собственно оно и было. Старая Одесса говорила в его рассказах на моем родном, одесском «языке», одесскими выражениями, словечками и оборотами речи. Я был воспитан на этом языке. И когда я читал «Как это делалось в Одессе» или «Король», мне не надо было подыскивать интонации, движения, манеры, добиваться их правдивости и достоверности — они уже были во мне, они впитались в меня с молоком матери, мне надо было только отбирать из этого богатства наиболее выразительное и точно соответствующее ситуации, рассказанной Бабелем.
Когда я начал читать его рассказы, я его еще не знал, но мне казалось, что его человеческий облик незримо присутствует в его произведениях. Я узнал его потом, позже, узнал так хорошо, что мог бы рассказывать о нем часами.
Написать о Бабеле так, чтобы это было достойно его, — трудно. Это задача для писателя (хорошего), а не для человека, который хоть и влюблен в творчество Бабеля, но сам не очень силен в литературном изложении своих мыслей.
Своеобразие Бабеля, человека и писателя, столь велико, что тут не ограничишься фотографией. Тут нужна живопись, и краски должны быть яркие, контрастные и безмерно выразительные. Они должны быть так контрастны, как «Конармия» и «Одесские рассказы». Быт одесской Молда-ванки и быт «Первой конной» — два полюса, и оба открывает Бабель. На каких же крыльях облетает Бабель оба полюса? На крыльях романтики, сказал бы я. Это не быт, а если и быт, то романтизированный, поднимающий прозу на поэтическую высоту. Почему же все-таки я пишу о Бабеле, хоть и понимаю свое «литературное бессилие»? А потому, что я знал его, любил его и всегда помню его. Писать о Бабеле трудно еще и потому, что о нем написано много и написано хорошо.
Это было в 1924 году. Мне случайно попался журнал «ЛЕФ». В журнале были напечатаны рассказы неизвестного еще тогда мне писателя. Я прочитал рассказы и «сошел с ума». Мне открылся какой-то новый мир литературы. Я читал, перечитывал бесконечное число раз. Я уже знал рассказы наизусть. И вот решил прочитать их со сцены. Было это в Ленинграде. Включил в свою программу «Соль» и «Как это делалось в Одессе». Позже и другие.
Так состоялось мое знакомство с Бабелем-писателем. Успех был большой, и моей мечтой стало увидеть волшебника. Я представлял себе его по-разному. То мне казалось, что он должен быть похож на Никиту Балмашева из рассказа «Соль» — белобрысого, курносого парнишку. То вдруг нос удлинялся, волосы темнели, фигура становилась тоньше, появлялись хвостики-усики — и мне чудился Беня Крик, вдохновенный, ироничный гангстер с одесской Молдаванки.
Но вот в один из самых замечательных в моей жизни вечеров, а было это в Москве, в помещении, где играли потом Театр сатиры и «Современник», я выступал с рассказами Бабеля. Не помню, кто из работников театра прибежал ко мне и взволнованно сказал:
— Ты знаешь, кто в театре? В театре Бабель!
Я шел на сцену на мягких, ватных ногах. Волнение мое было безмерно. Я глядел в зрительный зал и искал Бабеля — Балмашева, Бабеля — Беню Крика. Я его не находил.
Читал я хуже, чем всегда. Рассеянно, не будучи в силах сосредоточиться. Хотите знать — я трусил. Да-да, мне было очень страшно. «Дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви, — так было с Бабелем, а десять лет спустя — с Хемингуэем», — так пишет Илья Эренбург о Бабеле.
Но вот я его увидел.
Он вошел ко мне в гримировальную комнату. Какой он? О, воображение, помоги нарисовать! Ростом невелик. Приземист. Голова, ушедшая в плечи. Верхняя часть туловища кажется несколько велика по отношению к ногам. Ну, в общем, скульптор взял корпус одного человека и приставил к ногам другого. Но голова! Голова удивительная. Большелобый. Вздернутый нос. И откуда такой у одессита? За стеклами очков небольшие, острые, насмешливо-лукавые глаза. Рот с несколько увеличенной нижней губой.
— Неплохо, старик, — сказал он, — но зачем вы стараетесь меня приукрасить?
Я не знаю, какое у меня было в это время выражение лица, но он расхохотался.
— Много привираете.
— Может быть, я неточно выучил текст, простите.
— Э, старик, не берите монополию на торговлю Одессой. — И он опять засмеялся.
Кто не слышал и не видел смеха Бабеля, не может себе представить, что это такое. Я, пожалуй, никогда не видел человека, который смеялся, как Бабель. Это не громкий хохот — нет. Это был смех негромкий, но безудержный. Из глаз лились слезы. Он снимал очки, вытирал слезы и продолжал беззвучно хохотать.
Когда Бабель, сидя в театре, смеялся, то сидящие рядом смеялись, зараженные его смехом больше, чем происходящим на сцене.
До чего же он был любопытен. Любопытные глаза, уши. Он умел видеть. Умел слышать.