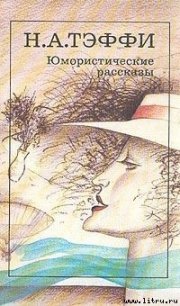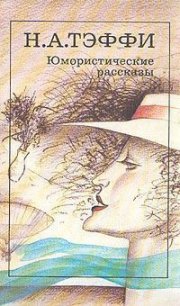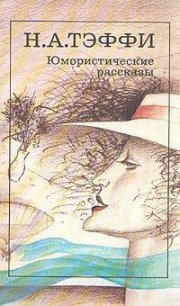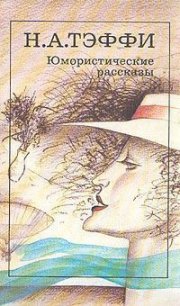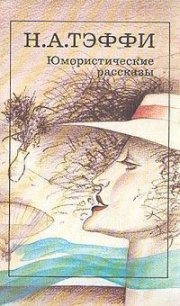Кусочек жизни. Рассказы, мемуары - Лохвицкая Надежда Александровна "Тэффи" (читаем книги .txt, .fb2) 📗
Что-то как будто плеснуло…
Это он, Карп!
Что я буду с ним делать?
Будь это где-нибудь в деревне, я бы выпустила его на волю, куда-нибудь в речку. А здесь, в Париже, бросить в Сену очень трудно. Это, кажется, даже запрещено, кто их знает. Пришлось бы ночью подхватить карпа под мышку (а он будет хлопать меня хвостом по спине!) и спуститься вниз под мост. Но там всегда присматривает полиция, и, чуть шлепнет карп по воде, мгновенно раздастся свисток, и за моей спиной вырастут две тени в пелеринах.
— Что вы бросили в воду? — спросит одна тень и схватит меня за руку.
— Не трудитесь отпираться, — скажет другая тень и схватит за другую руку.
— Я бросила рыбу, — отвечу я, стуча зубами.
— Рыбу? Она бросила рыбу! — усмехнется первая тень.
— Рыбу вытаскивают из реки, мадам, а не бросают в реку, — скажет другая тень.
— Будьте любезны следовать за нами, — скажут обе вместе.
И вот я в участке.
Меня вводят в отдельную комнату. Садят на стул и направляют прямо в лицо яркий свет лампы с рефлектором. Кто-то сидит с другой стороны лампы. Двое стоят у дверей.
— Вам нет смысла отпираться, — говорит спокойный, уверенный голос. — Ваши сообщники уже арестованы и принесли повинную. Отпираясь, вы только отягощаете свою вину.
Я понимаю, что это хитрость, на которую он хочет меня поймать.
— Но у меня не было никаких сообщников! — лепечу я.
— Так вы утверждаете, что вы совершили преступление одна? — строго спрашивает голос.
— Какое преступление? — в отчаянии восклицаю я.
Он ничего не отвечает на этот вопль. Я слышу только, как шуршит его перо по бумаге.
— Может быть, вы — fille-mére? — снова раздается его голос. — Помните, что чистосердечное признание… Что толкнуло вас на этот ужасный шаг? [75]
— Нужда, — отвечаю я машинально. — То есть нет. Жалость.
— Убийство из жалости, — говорит голос. — Отлично. Значит, он был безнадежен?
— Ну конечно. У него уже жабры не шевелились.
— Жабры? — переспросил он и прибавил вполголоса. — Какая грубая! Ну-с, подпишите протокол. Завтра с утра будут посланы водолазы обшаривать реку на этом месте.
Да. Они пошлют водолазов, и те найдут то, что всегда находится на дне современных рек: семь правых рук, три бедра, две головы мужских, четыре женских, одну ключицу детскую, одно ухо, один рот и восемь поясниц. Все это предъявят мне для опознания. Меня затошнит, и все станет ясно. И все будет кончено.
Меня посадят в тюрьму. Холливуд пришлет мне предложение крутить фильм. Казино де Пари — сыграть скетч, как я убивала. «Matin» поместит мой портрет, на котором я выйду с бородой и с тремя глазами.
Начнут исследовать мои умственные способности. Найдут, что я вполне сумасшедшая, но за свои поступки ответственна.
Потом меня повезут в суд. Вызовут в качестве свидетельниц всех моих знакомых дам, и, хотя они ничего показать не смогут, их все же заставят под присягой сказать, сколько им лет. И я буду смотреть на их муки и ничем не буду в силах им помочь.
Потом защитник скажет, что я очень раскаиваюсь и, утопив своих жертв, хотела сама броситься в воду, но промахнулась.
— Да, виновна, — прозвенит голос председателя.
Я спокойно выслушаю приговор.
Толпа на улице захочет разорвать меня на части, но правосудие откажется от этих услуг, и ночью, на рассвете, меня разбудят и предложат мне выпить стакан рому. Это мне напомнит разные чествования в русско-цыганском стиле, когда стоишь и через силу глотаешь не по вкусу сухое шампанское, а все кругом, выпуча глаза, припевают: «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!»
Я отгоню недостойные воспоминания, откажусь от рома и поеду казниться.
— Палач! — скажу я гордо. — Делайте свое дело.
И ни одна фибра моего лица не дрогнет.
Нарядные дамы из кабаков Монмартра встанут на сиденья автомобиля, чтобы лучше меня разглядеть. Нарядные дамы… Посмотрю-ка и я в последний раз, какие манто теперь носят…
Ну вот, я и умерла. Голова моя с сухим стуком упала в корзинку. А есть все-таки хочется.
Пошла в кухню, нашла хлеб. Нечего сказать — весело.
Карп шевелил плавниками, глотал воду, пускал пузыри и жил полной жизнью. И я, так трагически из-за него погибшая, очевидно, совершенно его не интересовала.
Яркая жизнь
В пять дней был создан мир.
«И увидел Бог, что хорошо» — сказано в Библии.
Увидел, что хорошо, и создал человека.
Зачем? — спрашивается.
Тем не менее создал.
Вот тут и пошло. Бог видит, «что хорошо», а человек сразу увидел, что неладно. И то нехорошо, и это неправильно, и почему заветы и для чего запреты.
А там — всем известная печальная история с яблоком. Съел человек яблоко, а вину свалил на змея. Он, мол, подстрекал. Прием, проживший многие века и доживший до нашего времени: если человек набедокурил, всегда во всем виноваты приятели.
Но не судьба человека интересует нас сейчас, а именно вопрос — зачем он был создан? Не потому ли, что и мироздание, как всякое художественное произведение, нуждалось в критике?
Конечно, не все в этом мироздании совершенно. Ерунды много. Зачем, например, у какой-нибудь луговой травинки двенадцать разновидностей и все ни к чему. И придет корова, и заберет широким языком, и слопает все двенадцать.
И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять?
— Ну-ну! — скажут, — вы рассуждаете легкомысленно. Этот червеобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то…
Не помню, о чем он свидетельствует, но наверное о какой-нибудь совсем нелестной штуке: о принадлежности к определенному роду обезьян или каких-нибудь южно-азиатских водяных каракатиц. Пусть уж лучше не свидетельствует. Червеобразный! Эдакая гадость! А ведь сотворен.
Кроме дара критики, дан еще человеку дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что-нибудь фактически, конечно, фантазия не может. И все «фактическое» большею частью так скучно и несовершенно, что принимать его в голом виде часто бывает неприятно, как нечто художественно не удачное.
И вот есть на свете натуры, которые этих нудных бытовых фактов принять не могут, не могут принять и считаться с ними не желают. Факт, по их мнению, может так же ошибиться, как и человек.
И вот они, эти люди, эстетически быта не воспринимающие, поправляют его своей фантазией (тоже для чего-то им дарованной, не хуже червеобразного отростка), и дальше живет в них этот быт, живет и распространяется уже в исправленном виде.
В просторечьи называется это — враньем.
Все вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести краткой, охватывающей всего только один день ее богатой событиями жизни.
Итак — живет на свете Валентина Петровна. Живет, как все мы, и шатко и валко. Это внешне. Но на самом деле жизнь ее богата содержанием, пестра и разнообразна.
Внешняя сторона ее жизни такова: ей пятьдесят пять лет (это ведь тоже относится к внешней стороне), одета она скверно, с чужого плеча, волосы у нее какие-то пестрые, лицо мятое, но выражение глаз вдохновенное.
Живет она в комнате у вдовы Парфеновой, вяжущей светры на продажу. За комнату платит не очень аккуратно, но это, с ее точки зрения, пустяки. (Парфенова с этим взглядом не согласна, но пока что решила терпеть.) Занятие Валентины Петровны — продавать светры Парфеновой, шить кошельки, рисовать пошетки — словом, что подвернется. Иногда, когда работы много, она просиживает по три-четыре дня, не выходя из дому, но — пожаловаться не может — впечатлений все-таки получает массу.
Или:
— Без вас приходил почтальон, — говорит она Парфеновой. — Я не знаю, любил ли этот человек когда-нибудь, но я прочла на его энергичном лице столько самоотвержения и готовности бороться за личное счастье, какие редко приходилось мне встречать. Я долго думала о нем и, вероятно, воспоминание о нем глубоко врежется в мою душу на всю жизнь.