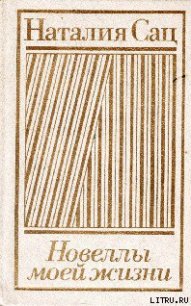Новеллы моей жизни. Том 1 - Сац Наталья Ильинична (библиотека электронных книг .txt) 📗
— Ну что же, напишите вексель, учтем его, если Московский Совет даст за ваш театр поручительство.
Стоит ли говорить, что за полчаса до закрытия банка, обегав всех и вся, я стояла у кассового окошечка со всеми бумагами и с бухгалтером Дроздовым.
Деревянная створка окна открывается, в нем — седая голова бобриком, с моржовыми усами, в очках.
— По векселю Детского театра кто будет получать деньги?
— Директор Сац Наталия Ильинична, — как-то особенно почтительно говорит Миша.
Моржовая голова поворачивается ко мне.
— Сколько вам лет?
Какой неожиданный и бестактный вопрос! Впрочем, он раньше был для меня страшен, а теперь уже девятнадцать с половиной, но поскольку год рождения 1903-й и сейчас 1923-й, не будет же он месяцы высчитывать…
— Двадцать лет, — авторитетно заявляю я.
— Несовершеннолетним векселей не учитываем, — отрезает моржовая голова и крепко закрывает деревянную створку окна.
Из банка мы возвращались с Дроздовым не глядя друг на друга. Я была посрамлена. Тогда мне казалось, что страшнее этого удара в жизни быть ничего не может. Как назло и в театре было неблагополучно. Актеры ходили хмурые или сидели по углам, репетиция прервана. Очевидно, Алексей Денисович перехвалил Воронову — и вот она опоздала на репетицию, потом надерзила ему, Дикий поднял скандал, отпустил всех с репетиции, но решил дождаться меня. Когда я вошла в кабинет, он там сидел один, в пальто и шапке. Не дав мне раздеться, он начал меня ругать за то, что в театре нет дисциплины, что я где-то езжу, в то время как хорошие директора должны все время сидеть на репетиции и думать о производстве. Я ему ответила не менее взволнованно:
— А хорошие режиссеры должны думать о возможностях театра. Вы с Ковальцигом только требуете, а как все это добывать, если сидеть в театре?
Дикий возразил еще более повышенным тоном:
— Мое дело — искусство, это меня не касается. Я не унималась:
— А должно касаться, если вы товарищ. Дикий подскочил как ужаленный.
— В вашем возрасте рано читать лекции. Работу над «Пиноккио» бросаю, навсегда из этого театра ухожу. — И он пошел к двери.
— В любой день вы могли бы это сделать, но не сегодня! — закричала я. — У меня такое горе, такое горе!
Дикий остановился в дверях и хмуро спросил:
— Ну, что еще случилось?
Я рассказала ему все — про вексель и моржовую голову, с трудом сдерживая слезы, когда выговаривала: «Несовершеннолетним векселя не учитываем». И вдруг Алексей Денисович начал хохотать, как маленький. Я сперва даже вздрогнула.
— Театр у вас детский и горе тоже детское, — сказал он, скинул пальто и шапку и как ни в чем не бывало пошел на сцену.
Артисты не разошлись, и через несколько минут репетиция шла на полном подъеме.
Прислушиваясь к музыке и смеху на сцене, я подумала, что, наверное, можно векселя переписать на кого-нибудь из товарищей постарше, а потом вспомнила ссору с Диким: мы ругались с ним, как дядя Вишня с Кукурузой, и так же неожиданно помирились.
На следующий день, когда я пришла в кабинет, то увидела на столе маленькую деревянную куклу-мальчика и записку Алексея Денисовича: «Я — Пиноккио — паяц рождаюсь по воле Наталии Ильиничны Сац». Мне было очень дорого это внимание!
Конечно, трудности идут за человеком, пока он жив, и в этом нет ничего особенного. Даже интересно. Но все это пока человек жив. И как страшно, когда неожиданно в ваш дом врывается смерть…
Русалочка
Это было в детстве… Однажды ночью сестра Нина разбудила меня и сказала каким-то странным голосом:
— Слышишь? Папа опять сочиняет музыку про страшное. А вдруг все косматые, все страхи-ужасы из своих сказок выползут, обступят меня кольцом и начнут душить?
Я любила спать и ответила строго:
— Уже давно дверь на цепочку закрыли. Никто не придет. Дай спать.
Нина считала меня «большим авторитетом» с первых дней жизни, но на свою постель не вернулась. Влезла ко мне под одеяло и заснула, чувствуя себя рядом со мной «под защитой».
Сейчас, когда в первый раз в жизни я набралась духу написать о смерти Нины, вспоминаю этот детский разговор без тени улыбки.
«Метерлинковско-леонид-андреевское», которое иногда звучало в папиной музыке и, значит, жило вместе с нами, меня никогда не пугало. Что-то будило фантазию для новых игр-представлений, что-то оставляло равнодушной. «Темные силы» и мрак символов, модные в искусстве того времени, мое сознание не тревожили.
Я была здоровой и жизнерадостной, право иметь собственное мнение рано стало для меня главным, и в папиной музыке борьбу, протест, преодоление, пусть неосознанно, любила больше всего.
Нина была у нас «меченая»: она родилась с двумя красными пятнами на шее. Странные пятна ползли вертикально, напоминая изображение Британских островов на географической карте.
Ниночка была очень нервной, часто плакала ночью в подушку, никогда ни с кем не спорила и старалась быть незаметной.
Внешне мы совсем не были похожи. «Лимончик» — прозвали Нину ребята. Она была бледна, продолговатое личико казалось выточенным из слоновой кости, большие серые глаза, пепельные волосы, угловатые от излишней худобы плечи, руки, ноги, привычка сидеть сжавшись в комочек, подперев голову рукой, — все было иным, чем у обычных детей.
В гимназии и музыкальной школе Нина училась безрадостно, но где-то глубоко в ней были скрыты Жемчужины многих дарований.
Помню, как я с подругами поставила пьеску Клавдии Лукашевич «Победила», как в нашу квартиру набилось человек десять соседей, пришел и друг нашей семьи артист Владимир Афанасьевич Подгорный.
Пока на домашней нашей сцене лицедействовали я и подруги Дина и Маня, наши зрители разговаривали почти так же громко, как мы, шутили. Но вот в белом платье появилась по пьесе только что «похоронившая своих папу и маму» Любочка — Нина, и от одного ее появления стало тише. Она долго смотрела на «дальних родственников» большими, недетскими глазами, потом, как бы пересиливая смущение, заговорила. Стало совсем тихо. «Черствые родственники» сказали страшные слова: «Отправим в приют», и вдруг Нина закрыла лицо руками и заплакала настоящими слезами, заплакала так, что появились слезы у зрителей, а наша дворничиха заревела в голос…
— У вас растет вторая Комиссаржевская, — совершенно серьезно сказал маме Владимир Афанасьевич Подгорный.
Да, в Нине нет-нет и прорывалось удивительное, а потом снова уходило в незаметное.
Больше всех сказок Нина любила «Русалочку» Андерсена. В разные годы она по-разному воспринимала эту сказку, но жила вместе с ее образами много лет.
Лет семи Нина, слушая папину музыку, начала танцевать — импровизировать эту сказку, превращаясь то в принца, то в колдунью, то в саму русалочку, то в птицу. Мы смотрели на нее широко раскрытыми глазами: в движении худенькое Нинино тельце вдруг стало неожиданно гармоничным, нельзя было не смотреть на ее вдохновенное лицо, не удивляться пластической выразительности.
Чем старше становилась Нина, тем больше она любила «Русалочку», рисовала, сочиняла о ней стихи и, наконец, написала «большую пьесу», которую попросила меня поставить. Долго мы вместе готовили этот спектакль, подключая и театр теней и музыку (это было уже после папиной смерти). Нина со своим вдохновенным лицом и верой во все происходящее снова поразила наших немногочисленных зрителей и нас с мамой…
Дарование драматической артистки, пластическая выразительность у Нины, конечно, были…
После гимназии она закончила Институт ритма, где воплощала музыку в движении едва ли не лучше всех выпускниц.
Была у Нины еще одна творческая любовь: слово. Первые Нинины стихи «Про Тартара» возникли от маминого рассказа о временах татарского ига и о том, как татары-завоеватели мучили русских.
Иногда Нина писала целое сочинение, чтобы иметь право несколько раз употребить какое-нибудь очаровавшее ее слово.
Ей было лет десять, когда она написала рассказ «Прюнелевые башмачки». Я сразу поняла, в чем дело.