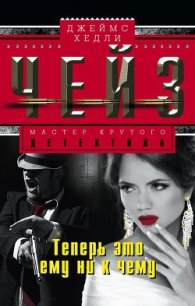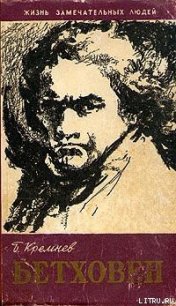Шуберт - Кремнев Борис Григорьевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
Но главная причина неуспеха Шуберта на оперном поприще в другом. В том, что он был великим лириком, а пора лирической оперы еще не приспела. Чтобы утвердить интимную лирику, простоту и естественность на театре, нужно было дерзко и безжалостно сломать каноны, царившие на оперной сцене. Для этого требовалось могучее литературное подспорье – хорошее либретто. А такового не было. Не случайно Бетховен, кроме «Фиделио», ни одной оперы не написал. Хотя до последних дней своих не переставал мечтать о театре.
Он перечитал великое множество либретто. И все отверг. Ибо ни одно не отвечало его требованиям.
Шуберт же, выбирая литературную основу своих опер, шел на компромиссы. Скрепя сердце мирился с тем, что было явно плохим. И вместо того чтобы крушить рутину, пытался подделаться и приспособиться к ней. На редкость искренний художник, он вынужден был кривить душой и сочинять музыку на ходульно-лживые либретто «больших героико-романтических опер».
Это неумолимо вело и неминуемо приводило к неудачам. Оттого все его оперные детища, несмотря на отдельные сильные сцены и драматически выразительные эпизоды, остались мертворожденными.
VII
Теперь он жил у Шобера. Еще год назад он переехал сюда. После неприкаянного житья в одиночку жизнь в устроенном семейном доме казалась благом. Отпали заботы о множестве мелочей, без которых невозможно существовать и которые отравляют существование, если надо о них беспрерывно думать.
Перебравшись к Шоберу, он и оставался свободным и был свободен от тягот быта.
Дом Шобера был просторным и легким. Тут никто никого не стеснял. Всякий жил по-своему, той непринужденной и согласной жизнью, какой обычно живут обеспеченные люди, привыкшие к комфорту и не замечающие его.
Хотя обеспеченности в семье давно уже не было.
Мать Шобера довольно быстро спустила состояние, оставшееся от мужа. Сам же Шобер еще быстрее расправился с ее деньгами. В чем, впрочем, она посильно помогла сыну.
Но у них было немало добрых знакомых, людей, что называется, с положением в обществе. Шоберы, однажды попав в их круг, продолжали вращаться в нем. Для этого не требовалось никаких особых усилий. Надо было лишь жить no-заведенному, то есть на широкую ногу. А это Шоберы могли. Жить не по средствам они были большие искусники. Умения добывать деньги, не трудясь, им было не занимать.
Бедняку, дрожащему над каждым грошом, никто не протянет и куска черствого хлеба. Он нищий. Помогать ему – значит разводить нищету. Другое дело – мот, пустивший по ветру состояние. Он не бедствует, он испытывает денежные затруднения. Помочь ему – одна из заповедей человеколюбия. Он ближний, он свой, не чужой.
Шоберы давно уже жили в долг, занимая у одних и отдавая другим, с тем чтобы, перезаняв у третьих, вернуть долг четвертым.
Так они и жили, мать и сын, – широко и беззаботно, в свое удовольствие. В долгу, как в шелку, в полном смысле этого слова: Шобер был модником и всегда одевался с иголочки.
В такой семье лишний рот не обуза. Так что Шуберту жилось легко и спокойно. Он никому не мешал, и ему не мешали. Он так же, как прежде, весь день сочинял, забившись в отдаленной комнатенке большой квартиры. Его не тревожили. Ему не докучали. А если среди дня вдруг врывался Шобер, то ненадолго. Прочтет только что написанное стихотворение, продекламирует что-нибудь из Шекспира или Гете – декламировал он превосходно, и слушать его всегда было наслаждением – и снова уйдет к себе.
Труд друга Шобер ценил.
Летом они часто выезжали за город, где подолгу гостили у многочисленных родственников Шобера.
Здесь, на лоне природы, работалось еще лучше, чем в Вене. Щурясь под лучами яркого солнца, Шуберт писал, писал, писал, счастливый тем, что споро пишется, легко дышится и привольно думается. И радостный оттого, что где-то рядом, в каких-нибудь двух шагах, друг, которого любишь ты и который любит тебя, который живет с тобой одной жизнью и думает одной думой. Если же и начнет спорить, то выплеснет столько мыслей, неожиданных, острых, оригинальных, что едва поспеваешь охватить их умом. Право, о лучшей духовной пище грешно и мечтать.
В увлечении другом Шуберт даже изменил своим нерушимым привычкам. Он, не терпевший светских сборищ, больше всего на свете ценивший время, ибо только оно одно своей постоянной нехваткой заставляет человека лучше и больше трудиться, он, почитавший вдохновение трудом, а труд – вдохновением, ненавидевший пошлое стремление «хоть как-нибудь убить время», ибо те, кто одержим этим стремлением, не понимают, что роль жертвы уготована не времени, а им самим, влекомый Шобером, даже стал посещать провинциальные балы.
В Санкт-Пельтене, где друзья проводили лето, он покорно томится в обществе многозначительно и глупо улыбающихся девиц, с которыми разговаривать скучно, а молчать того скучнее, и их напыженных кавалеров с осиной талией, затянутой в мундир, позванивающих шпорами и покрикивающих неокрепшими басами. Он слушает их пустую болтовню о жаркой погоде и прошлом бале, где было так мило и так приятно, о резвости жеребцов, о перемещениях в полку, о предстоящих парадах и наливается яростью, тяжелой и бессильной. Потому что друг в это время без конца танцует, жуирует, острит, рассыпается в любезностях и комплиментах. И вообще чувствует себя звездой, занесшей отблески яркого света столицы в тусклую провинцию.
Шобер обладал завидной способностью не только мгновенно приспособляться к любому обществу, но и сразу становиться душой его. Шуберт, напротив, попав к незнакомым людям, тотчас сникал, и никакая сила не могла вывести его из состояния внутренней оцепенелости. Чем больше он старался принудить себя быть разговорчивым, находчивым, тем меньше ему это удавалось. Иной раз он часами не мог выдавить слова, красный от стыда и досады, угрюмый и злой, не на других, а на себя.
Со стороны же казалось, что в компанию затесался скучный, серый и малоразвитый человек. Он видел, какое впечатление производил. И еще сильнее терзался. И еще плотнее захлопывал створки души.
Но стоило ему появиться в кругу близких по духу и сердцу, как все мгновенно менялось. Вместо молчаливого, неловкого, мрачноватого увальня появлялся веселый, общительный человек, полный обаяния и юмора. Нисколько к тому не стремясь, он становился магнитом, притягивавшим других. К этому не прилагалось ни малейших усилий. Им никогда не владело суетно-тщеславное стремление главенствовать. Это приходило непроизвольно, само собой. Он был настолько внутренне богат и значителен, что все остальные невольно тянулись к нему. Так подсолнухи тянутся к солнцу. Не понуждаемые им, а неудержно влекомые животворным его теплом.
Поэтому частые встречи друзей получили имя шубертиад.
Были они шумными, веселыми, непринужденными. Здесь никто никого не стеснял и не подавлял. Один дополнял другого, а все вместе составляли ту благодатную духовную среду, в которой легко и славно живется.
На шубертиадах пели, музицировали, читали стихи, разыгрывали живые шарады, танцевали. Всякий пришедший сюда вносил свою лепту. Была она ценной – ее принимали, не была таковой – отвергали. И никто не обижался, ибо все знали: здесь правит один-единственный закон – строгий, взыскательный вкус.
Шубертиады происходили в разных домах – у Шобера, у Шпауна, у Зоннлейтнера – в городе и за его бастионами.
Летом друзья нанимали извозчика, взгромождались в пролетку и, до отказа облепив ее, – те, кому не, хватало места, ехали на запятках и подножках, а то и просто брели пешком, – отправлялись в Атценбругг, имение на Дунае, под Веной, где управляющим был дядя Шобера – Иосиф Дерфель.
Здесь целыми днями гуляли по лугам и рощам, играли в мяч, пятнашки, устраивали пикники.
А по вечерам собирались в гостиной. Шуберт усаживался за рояль. Начинались танцы. Звонкий лендлер сменял быстрокрылый галоп, грациозный вальс – тяжеловатый, мечтательно-задумчивый немецкий танец.
Каждый из этих танцев – маленькая жемчужина музыкального искусства. Столько в них изящества, мелодичности, красоты. Как-то даже не верится, что все эти пьесы создавались на лету. Шуберт не сочинял их заранее. Они, словно быстрокрылые голуби, выпархивали из-под его коротких и толстых пальцев и предназначались не для слушателей, а для танцоров. Потому, вероятно, под них так легко и свободно танцевалось.