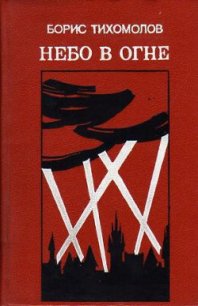На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Смеркалось. По стенкам полутемного вагона, остановившегося на полустанке, бегали кровавые отблески чуть пламенеющего в открытой топке угля. Куркули, как тараканы, выползали из щелей, плотной стенкой загораживая свет. Наступало их господство.
Свалившуюся с неба благодать власти, возможности командовать и понукать другими каждый реализует в силу своего характера и воспитания. Куркули распорядились, как велела их природа.
Вечером они пели песни и угомонились поздно. Ночь прошла спокойно. Утром после кормления их душа стала «терзаться и просить».
— Выноси парашу! — приказал Король Сучку. Это было ново, ибо при Ваське мы этим не занимались. Но делать было нечего. Мы молчаливо и предательски отодвинулись от Сучка. Он понес парашу под ехидные смешки куркулей. Мы таились в своем логове. Что будет дальше?
— Эй, шестерка, сала хочешь? — это верхняя полка решила позабавиться над нами. «Шестерка» — относилось к Сучку. Между досок верхней полки один из куркулей просунул свой член и стал мочиться, стараясь попасть на Сучка. Куркули сначала злорадно зафыркали, а потом заливчато заржали. Мы трусливо жались в угол, по возможности отстраняясь от летящей мочи и от Сучка.
— Нэхай воны вытряхають свои шарманки, побачимо дэ наше сало! — предложил кто-то из них.
Первым заскулил Сучок:
— Да у меня ничего нет, я ничего не брал!
Его гнусавый голос, слезливый тон постепенно раззадоривал куркулей. Начало было положено.
— Иди сюда! Выверни шарманку! Ничего нет — тебя не тронем, зато других распотрошим!
Сучок неестественно задергался на полке и, ни на кого не глядя, согнувшись, сполз к печке, забрав свою шарманку. Предательство никогда не обходится дешево: его заставили высыпать на пол весь жалкий скарб; здоровенный куркуль сел на шарманку, как на унитаз.
Вечная заповедь: «Хлеба и зрелищ!», но при этом хорошо быть зрителем, а не гладиатором! Мы ждали своей участи. Сучок стоял на коленях перед печкой и всхлипывал.
— Давай следующий, — упоенный легкой победой и властью, Король глянул на нас. Крайним был я.
Некоторые из читавших мои записки с недоверием говорили: «Не может быть, что ты так хорошо все помнишь». Хотелось бы посадить такого «Фому неверящего» на то мое место и через 50 лет спросить: «Помнишь?»
Все молчат. Мне надо встать и с шарманкой идти на беспросветный унизительный позор перед всем вагоном. Иначе меня выволокут за ноги и начнут бить. Я весь сжался в комок и стараюсь втиснуться в нашу поредевшую группу.
— А ну, тащи его шарманку сюда! — приказывает Король Сучку. Сучок сначала растерянно не понимает, чего от него хотят. Король встает и подзатыльником направляет Сучка в мою сторону. Тот падает на нары и ползет ко мне:
— Ну, Борька, ну, дай шарманку! — сквозь всхлипывания просит он, уже совсем униженный. Вот он подползает ближе, уже тянется к шарманке… Я поджимаю под себя ноги и со всей силы «дуплетом» бью в Сучка. Он как-то странно невесомо проскальзывает нары и летит прямо в сидящего на шарманке куркуля. Тот опрокидывается навзничь. Растопыренные ноги Сучка ударяют по раскаленной печной трубе, она отскакивает на противоположную сторону и падает на ватное одеяло. Из печки вырывается столб искр.
— Горим! — орет кто-то сверху. Кто-то схватывает ведро параши и выплескивает на печь. Удушливая вонь горелых мочи и кала растекается по вагону. На ходу Король распахивает дверь… крики… шум… Но колеса уже перестукивают на входных стрелках Аягуза.
Сучок исчез из вагона, не дожидаясь его остановки. От головы поезда к нам уже бежали сопровождающие.
После Аягуза на нашей полке вместо Васьки и Сучка поселились старшина с солдатом из сопровождающей команды. Всему вагону «по прибытии на место дислокации» была обещана гауптвахта. Что это такое, я расскажу потом, когда там буду сидеть, а пока что «жизнь продолжается».
Кстати, чтобы забыть о Сучке и вычеркнуть его из записок, скажу: он не станет офицером. При первой сортировке в Ташкенте Сучок попадет в батальон пулеметчиков, начнет учиться, но в августе сорок третьего года половина училища будет направлена маршевыми ротами на правобережные заднепровские плацдармы. Я лишь издали увижу его костлявую спину, прикрытую тощим вещмешком; где-то на задворках мозга промелькнет алма-атинский Зеленый базар с его терпким запахом гнилых яблок, наш притон, маленькая Зинка, пульман с морозной угольной пылью… и тут же все провалится в тартарары от вожделенной команды: «Р-р-рота, выходи строиться на обед!»
Старшина был уже пожилым (лет тридцати) солдатом, кадровую служил до войны где-то на Дальнем Востоке, в начале войны был ранен и после блужданий по госпиталям попал в тыловую команду. Первый шок немецкого Blitzkrieg'a и тяжелые ранения напрочь отбили у него желание возвращаться «туда», но фронт, боевых друзей он вспоминал с большой теплотой. Вечерами, когда неторопливо стучали колеса, а в печке загадочно бегали огоньки, старшина рассказывал. Его две золотые нашивки и багровый шрам через всю левую лопатку, манера легко, по-свойски, говорить о расстрелах, смертях, всех нас превращали в стадо кроликов, неотрывно следивших за каждым его движением. За фронтовыми рассказами пропадала наша мальчишечья петушиность. В вагоне пахнуло войной, фронтом. Уже с утра мы ждали вечера, когда можно будет вместо официальных политинформаций, сбившись в тесный кружок вокруг печки, без конца слушать старшину и вместе с ним переживать каждую атаку ненавистных фрицев, каждый отход, отступление наших. Все неудачи первого года войны в марте сорок третьего года смотрелись через розовые очки побед наших армий на юге Украины и особенно в Предкавказье. Газеты каждый день приносили все новые и новые известия одно другого радостнее. Бросая технику, раненых, еле справляясь с паникой, немцы бегут с Кавказа, из Сальских степей! Нами взяты Батайск, Ростов, Харьков! На севере развернулись бои за пепелища Ржева, Гжатска! Ликвидирована «демьянова уха» в районе Демьянска к югу от Старой Руссы!..
Только в середине сорок четвертого года я на себе узнаю, как даются военные успехи, а пока что бравурные литавры тыловых политработников, корреспондентов и писателей бьют по нашим мозгам, заглушая рассказы фронтовиков.
Освобождалась «Щира Украiна». Правда, не было уже Васьки, Сучка, да и мы ехали в другую сторону. Наш старшина не спорил с политработниками, а когда они говорили, угрюмо молчал, сидя в своем углу.
К концу марта фронт постепенно стабилизировался. Наши сильно потрепанные дивизии с выбитой пехотой местами уже не могли не только наступать, но и удерживать занятые рубежи. Немцы, создав у себя в тылу сильную оборону и подведя резервы, на отдельных участках переходили в наступление. То там, то здесь наши «драпали» и приходилось срочно латать дырки. Так, моей будущей 113 стрелковой дивизии, куда я попаду в мае сорок четвертого года, в ту тяжелую весну фронтовые остряки присвоили наименование «Засеверодонецкой» в память о бегстве с правобережных плацдармов на Северном Донце, большой кровью захваченных в феврале. Но все это происходило там, на фронте.
Колеса наших вагонов тем временем стучали уже далеко за Алма-Атой. Иногда шли дожди, но чаще ярко светило солнце. Степь пробуждалась, раздражая нас весенними запахами нежной зелени и талой земли.
В Джамбуле на станционном базаре за 350 рублей я продал новые рабочие ботинки. Деньги пошли на общий стол вместе с остатками пшеничных сухарей и пожелтевшего в тепле деревенского сала. Хлеб мы уже получали «на вагон», за кипятком бегали «на всех». Приближался Ташкент, а с ним новая неведомая курсантская жизнь. В преддверьи ее мне минуло 18 лет. Знали об этом только я и где-то далеко на севере в Кирове — мама.
Глава 2
Ленинские лагеря
С внутренней тревогой я подхожу к описанию курсантской жизни. Училище — это замкнутый клан с особым бытом, своими горестями, заботами, своим юмором, понятным только курсантам. Этот юмор нельзя перевести ни на какие языки, как нельзя рассказать о нашей жизни так, чтобы современный читатель почувствовал всю ее сочность, молодость, задор, вылезавшие из швов и дыр наших стиранных и много раз латанных гимнастерок.