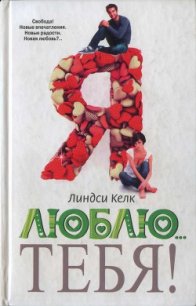Конь рыжий - Гуль Роман Борисович (книги онлайн полные версии txt) 📗
Этим и кончается концерт. А ночью я вдруг при вскочил от грохота, заколебавшего здание. Из высоких окон, дребезжа, летели стекла; казалось, рушатся стены, в страхе заметались вскочившие, полураздетые люди. «Господа! По нас стреляют из пушек!», в одних подштанниках кричит какой-то полковник. «Да, нет, это взрыв!», – кричит кто-то. Я сразу же подумал, что это адская машина; так чего ж метаться, кричать, бежать? Всё равно некуда. Я опустился с локтя на спину и лег, как лежал. Из аудитории, где еще вечером давали концерт, сейчас несут окровавленных людей; на спящих с такой силой рухнул стеклянный купол, что осколками пробивало не только тела, но и стулья. А в вестибюле, куда в эту декабрьскую ночь кто то, подъехав, с автомобиля бросил адскую машину, лежат, как тряпочные, раскинув ноги, трое убитых часовых. Говорят, этот кто-то, вызвав панику, хотел расправиться с заключенными. Не вышло только потому, что караульные все-таки уцелели.
Провода порваны, электричества нет, темнота. Зал осветился несколькими свечами. В полусвете, гремя оружием, ворвались черноморцы. «Панове! Тихо, не то нагаями бить будем!» В пустые, бесстеклые окна несет снег, ворвался край отмытого черного зимнего неба. И из какого-то сказочного, древнего времени в сознанье приходит: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». По полуосвещенному залу, в направлении ко мне идет вооруженный до зубов невзрачный черноморец и пристально вглядываясь в арестованных, указывает на некоторых и говорит идущим с ним приятелям: «це убив бы… це убив бы… це убив бы…» Я понимаю, он выбирает наиболее ему неприятных: полковников с бакенбардами, как у Александра II-го, интеллигентов в золотых очках, корнетов в красных чикчирах. Сейчас парню не позволяют этого сделать немцы, но когда в Киев въедет чека, Лацис и Португейс разрешат ему «шлёпнуть» всех, кто «триста лет пили народную кровь».
II
Из пустых рам приятно обдает снежным ветром. Одних увезли в Лукьяновскую тюрьму, другие освободились благодаря связям, третьи откупились деньгами и бежали. Нас, без связей, без денег, осталось человек пятьсот. Я заглядываю в выбитое взрывом окно, авось увижу какого-нибудь вольного? Никого. Снег, мороз, пустота. Вокруг музея два квартала опутаны проволокой. Под окнами в зале ветер нанес снегу. Что с нами будет? Вряд ли что-нибудь хорошее. Но вот в этот полупустой зал, где гуляют сквозняки и под окнами лежит снег, вошел человек незаметной наружности. Он называется: командир украинского осадного корпуса полковник Коновалец. Он закричал, чтоб через час все были готовы к отправке.
– Куда?
На наши вопросы Коновалец не отвечает. Он – наша судьба. И всех облетает невероятный слух: полураздетых, голодных (хотим мы иль не хотим) нас вывозят в Германию. Я не могу себе этого даже представить. Но похожий на Шиллера немецкий лейтенант подтверждает, что именно он нас конвоирует до Берлина. И нет ни времени, ни возможности даже известить мать.
Я в солдатском бараньем кожухе, подпоясанном стертым ремнем, в седых разношенных валенках. Все мои и братнины вещи: жестяной чайник, две кружки, полбуханка хлеба, несколько кусков сахару. Но двери музея уже отброшены наотмашь, в них врывается холодный, кружащийся вихрь. По пустеющему залу шумят наши сапоги, шелестят валенки.
В улице нас охватывает темная тишина ночи, углубленная осадным положением. Под конвоем конных петлюровцев, в снеговой тишине мы движемся к светящейся линии трамваев. Гайдамаки на круто вертящихся от мороза конях гарцуют с саблями наголо. Но ни на пеших, ни на конных я не гляжу. Этот сухой морозный воздух, эта ночь, этот скрип сапог по снегу, эти после неволи свободные движенья ног и рук, сейчас мне дороже всего.
Конный гайдамак саблей подает сигнал и непонятно что-то вскрикивает по-украински. Мы влезаем в охраняемые гарцующими конниками трамваи. Они трогаются в темноте; катятся их зеленые, красные, желтые огни. Кавалеристы скачут всё быстрей. Я вижу, рядом с окном еще на-рысях летит темный конный, лица не видно, а его запаленый вороной конь высоко подбрасывает левую заднюю; «попорчен», думаю я, «шпатит».
– Коля, гляди, у нас в столовой огонь, – и растирая замерзшее стекло, блондин прапорщик припадает к трамвайному окну, он впился в какой-то свой огонь, от которого его увозят. Мелькают столбы, дома, тумбы, улицы, снег и скачущие уже в галоп петлюровцы. Блондин прапорщик волнуется, хочет доглядеть огонь в своей столовой. У меня давно уж нет моего огня. Куда я еду? Что чувствую? Чорт знает что, ничего, что-то отвратительное. Эти киевские дома, эти улицы мне чужие, я гляжу на пеленающий их снег, вот этот снег только я, пожалуй, и люблю.
Трамваи остановились. Вокзал. На темной платформе зловеще чернеет строй солдат, нас ведут сквозь него.
– Эх, афицаришки бедные, тоже, поди, дома жана, дети, – тихо говорит голос из солдатского строя.
– А зачем против народу шли?
– От це гарний буржуяка! – смеется какой-то темный петлюровец, с издёвкой показывая на толстого офицера.
По сорок человек мы лезем в черную пасть рас крытых скотских теплушек, нас запирают на замок. Я ощупью устраиваюсь в этом временном жилище, ложусь на солому и мне кажется, что этот Киев, бои на снегу, концерт, взрыв в Педагогическом музее, эта ночь с поездкой в трамваях и то, что я сейчас почему-то лежу в безглазой темноте скотского вагона, всё это сон и будто во сне кто-то идет вдоль состава, ударяя молотком по колесам. Но вдруг, разноголосо завыв, поезд рванулся, застонал цепями, и сквозь ветер и метель пошел. Куда? В темноту России.
III
Дальше этой станции нет пути. Это Альтенау, Северный Гарц с вершиной Брокен, куда к ведьмам в гости на шабаш летали Фауст с Мефистофелем. Горный паровозик уперся в синий рассвет, за нами всего два вагона, остальные отцеплены, то-то ночью лязгали цепи и кто-то отрывисто кричал по-немецки.
Я выпрыгнул из вагона. Кругом всё сине, мутно-синие горы, ели на горах, как из каленой стали. В этом курчаво синеватом тумане немецкий городок в три улички кажется заброшенной в горы игрушкой; в долине еле видны его красные черепичные крыши.
После всероссийской стрельбы тишина Германии поражает и обволакивает душу. Этой тишине даже не веришь. Два немецких солдата-инвалида в заплатаных, но все ж аккуратных мундирах ведут нас под гору в Альтенау. Хорошо идти в горах в шестичасовом предутреннике. Мы спускаемся с кручи, ноги легко подсекаются. На гостинице, похожей на сказочный пряничный домик, прибита доска: «Здесь в 1777 году останавливался поэт Вольфганг Гёте во время своего путешествия по Гарцу». Вероятно, это было прекрасное путешествие. Цокая по камням деревянными туфлями, у колодца сошлись три краснолицых немки, без удивленья глядят на нас, за войну они привыкли ко всяким пленным. Тут они, вероятно, обмениваются сплетнями трех уличек и медленно расходятся скривленной под тяжестью вёдер походкой.
Вывесившись на подложенных под локти подушечках, из странного старинного дома глядит уже проснувшийся алебастровый старичек с трубкой в зубах и чему-то болванчикообразно качает головой.
– Дождался, дедушка, гостей с музею! – смеется, идущий со мной, полтавский вартовый Юзва, украинский люмпен-пролетарий с лимонным лицом скопца.
За нами цокают деревянными туфлями немецкие мальчишки, кричат: «Русски капутцки!» Это замирающие крики войны. Но она уже немцами проиграна. С сосен и елей паром улетает туман. На полугорье у высоко обнесенного колючей проволокой дома проминается часовой с винтовкой. Нас вводят в калитку и часовой повернул за нами ключ в замке.
Это бывший лагерь военнопленных офицеров; часовой, вероятно, принял нас за запоздалую партию пересыльных на родину. А я даже не знаю, кто мы? И кто нас, без всякого нашего волеизъявленья, привез сюда, в Северный Гарц? Провожавший до Берлина лейтенант с лицом Шиллера сказал, что мы вывезены желаньем одного немецкого генерала из главного командования в Киеве, понимавшего, что Киев будет взят большевиками и что большевики нас наверняка расстреляют. Что ж, надо признать, что этот немецкий генерал спас нам жизнь.