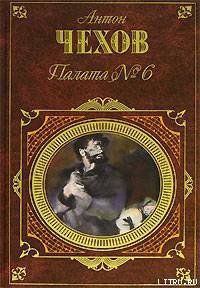Антон Павлович Чехов - Чудаков Александр Павлович (смотреть онлайн бесплатно книга txt) 📗
К точке зрения о переменах, происшедших в творчестве Чехова, присоединился и Н. К. Михайловский, но только значительно позже. В 1900 году, в статье «Кое-что о г. Чехове», он писал: «Как “Палата № 6”, так и “Черный монах” знаменуют собою момент некоторого перелома в г. Чехове как писателе, перелома в его отношениях к действительности».
Общая оценка прозы Чехова в начале 90-х годов установилась: талант его признан. Еще в 1891—1892 годах появились рецензии целиком отрицательные – после «Палаты № 6» это стало уже почти невозможным. Даже очень скептически относящиеся к Чехову критики – М. Южный, Ю. Николаев, М. Протопопов – снабжают свои статьи оговорками, иногда весьма существенными.
И критики и читатели все решительнее выделяют Чехова из ряда его литературных сверстников; рядом с ним рискуют ставить только Гаршина и Короленко. А. И. Эртель 14 декабря 1892 года писал В. А. Гольцеву: «Глубоко радуешься, когда на плоскостях современного “промысла”, который лишь с натяжкою можно именовать “искусством”, возрастают такие будущие вершины, как Чехов и Короленко». В. А. Гольцев в свою очередь считал, что «среди современных беллетристов, которые привлекают особенно сочувственное внимание читателей и с именами которых связаны большие надежды нашей литературы, одно из наиболее выдающихся мест занимает Антон Павлович Чехов». «Из молодых беллетристов, выступивших на литературное поприще в восьмидесятых годах, – писал М. Белинский (И. И. Ясинский), – Антон Чехов, бесспорно, самый даровитый, и его ожидает блестящая литературная будущность».
Высоко оценил Чехова Лев Толстой. «Какая хорошая вещь “Палата № 6”», – писал он 24 декабря 1892 года И. И. Горбунову-Посадову. «Он очень даровит», – замечал он через три года (Л. Л. Толстому, 4 сентября 1895).
В рецензии на сборник Чехова «Повести и рассказы», напечатанной в «Новом времени», С. А. Андреевский в 1895 году писал, что в его авторе «все видят общепризнанного наследного принца наших крупных писателей». Правда, против такой оценки Чехова на страницах той же газеты выступил В. Буренин, некогда приветствовавший вступавшего в большую литературу Чехова, но по мере роста его славы критиковавший его все несправедливей и злее: «Признаюсь откровенно, я должен себя выключить из этих всех. […] По-моему, г. Чехов до сих пор не создал еще ничего такого, что бы давало ему право на титул, любезно преподносимый г. Андреевским. Если под крупными писателями разуметь Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, то, я полагаю, сулить г. Чехову в будущем трон этих королей родной литературы немножечко рискованно».
Но этот фельетонист был уже одинок. Все чаще в критике, переписке, высказываниях современников Чехов ставился именно в этот литературный ряд – вместе с Гоголем, Тургеневым, Толстым.
5
В русской литературе обсуждение главных общественных проблем времени традиционно было уделом произведений большого эпического жанра – романа (вспомним «Отцов и детей», «Обломова», «Войну и мир»). Чехов романа не создал. И вместе с тем он – один из самых социальных русских писателей.
Сам Чехов считал, что он пишет рассказы. Иногда – довольно редко – он вдруг обмолвится в письме словом «повесть» (например, о «Дуэли»), но в другом письме «поправится»: «Наконец кончил свой длинный и утомительный рассказ…»
Роман был главным прозаическим жанром XIX века. И современники Чехова ждали от него именно романа и уговаривали взяться за него. Одно время сам Чехов тоже считал, что надо написать роман. «Хочется писать роман, есть чудесный сюжет […], – сообщает он Д. В. Григоровичу в 1888 году, – те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растранжирю их на мелочи и обещаю Вам это».
Работа над романом была начата и на первых порах значительно продвинулась. Правда, это был странный роман. «Назвал я его так: “Рассказы из жизни моих друзей”, – сообщал Чехов через полгода, – и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие».
Романа Чехов так и не написал, а готовые его главы мы, очевидно, читаем в полном собрании его сочинений в виде «отдельных законченных рассказов». Но в форму небольшого рассказа-повести он смог вместить огромное социально-философское и психологическое содержание.
С середины 90-х годов едва ли не каждая такая короткая повесть Чехова вызывала бурный резонанс в печати. Раньше такого внимания этот жанр не удостаивался. Вокруг «Дуэли», «Палаты № 6», «Рассказа неизвестного человека», «Мужиков» сталкивались мнения, разгорались споры, подобные тем, которые вызывались многопланными романами.
Каждая чеховская вещь, несмотря на малый жанр, в котором она была написана, поднимала огромные пласты жизни общества. «Умею коротко говорить о длинных вещах», – замечал Чехов, и это было правдой. Он создал целую систему выразительных средств, позволивших ему этого добиться.
Прежде всего это особая форма композиции – когда рассказ начинается без каких-либо подходов, сразу вводя читателя в середину действия, и так же неожиданно, без «закругленной» развязки, кончается. При такой композиции сферы действительности, оставленные автором за границами произведения, ощущаются нами как присутствующие, подразумевающиеся.
Это и ставка на сотворчество читателя, которому дается не исчерпывающий набор событий, реалий, оценок, а как бы их канва, некий пунктир, в расчете на то, что недостающие элементы, как писал Чехов, читатель «подбавит сам».
И это, наконец, чеховская деталь. Хрестоматийным стал пример, как Чехов в рассказе «Ионыч» изображает рост преуспеяния доктора Старцева при помощи изменения его «средств передвижения»: сначала он ходит пешком, потом у него появляется пара лошадей, затем – тройка с бубенчиками.
Важным средством создания социальной значимости и художественной емкости текста было то особое свойство чеховской детали, которое не сразу было понято и принято его современниками.
Речь шла о деталях, не востребованных «немедленно» развитием действия. Так, в «Огнях» инженер, рассказывая историю своей любви, среди прочего говорит: «Укромные уголки […] всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. […] Какой-то Крос, вероятно очень маленький и незначительный человек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, все это дела не касается… Простите, я не умею рассказывать коротко». Рассказчик сам указывает, что эпизод «не касается» сюжета истории.
В рассказе «Новая дача» (1898) есть эпизод, где крестьяне захватили у себя на лугу скотину, принадлежащую их соседу-инженеру. Далее сообщается, что «вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, некормленные и непоенные, возвращались домой понурив головы, как виноватые, точно их вели на казнь». Живописное изображение скотьей процессии функционально: оно участвует в создании того настроения, которое возникает у героев из-за глубокого социального непонимания друг друга. Но непосредственно перед этой картиной в рассказе есть еще одна, со столь же точной фиксацией движений: бычок «был сконфужен и глядел исподлобья», а потом его настроение переменилось и он «вдруг опустил морду к земле и побежал, взбрыкивая задними ногами»; старик Козов «испугался и замахал на него палкой, и все захохотали». Зачем же такое повествовательное пространство отдается подробностям сцены, не имеющей прямого отношения к основному смыслу и целям всего эпизода?
В повести «Мужики» (1897) описывается пожар. Завершается картина общей суматохи на улицах упоминанием о том, что вместе со скотом на волю был выпущен злой вороной жеребец. Деталь существенна и вполне традиционна. Но вот она разрастается: сообщается, что жеребца «не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей»; что тот «топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами». Отвлекшись от изображения пожара, автор вдруг начинает пристально следить за его поведением.