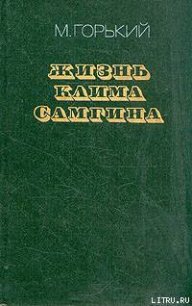Фёдор Шаляпин (Очерк жизни и творчества) - Никулин Лев Вениаминович (читать книги онлайн регистрации txt) 📗
Нелегко далась Шаляпину его новаторская роль в оперном искусстве. И как часто «шаляпинские» скандалы с дирижерами, оркестром, хорами и режиссерами происходили оттого, что он хорошо понимал: не один только редкостный его дар воздействует на публику.
Сила воздействия его великолепного таланта зависела от оперного спектакля в целом, от певцов и певиц — его партнеров, от оркестра, хора, от дирижера и режиссера спектакля, от художника, наконец, от последнего статиста, который, стоя где-нибудь на заднем плане, привык меланхолично чесать древком алебарды ногу, — и его примечал глаз Шаляпина. И вдруг глаза его белели от гнева, его начинало трясти от ярости — и происходили знаменитые «шаляпинские» скандалы, от которых страдали в большинстве случаев не маленькие люди, а почтенные, но довольно равнодушные к судьбам искусства театральные деятели.
«…В театре меня угнетало казенное отношение к делу, — писал Шаляпин, — к спектаклям все относились в высшей степени хладнокровно, машинообразно…»
В другом месте Шаляпин пишет: «…попробуйте-ка воплотить свою мечту в живой образ на сцене, в присутствии трехсот человек, из которых десять тянут во все стороны от своей задачи, а остальные, пребывая в равнодушии, как покойники, ко всему на свете, никуда не тянут!»
Печать резко осуждала Шаляпина, упрекая артиста в том, что он ссорится с такими почтенными людьми, как дирижер В. Сук, с такими талантливыми дирижерами, как Эмиль Купер, и окружает себя «заведомо безличными артистами лишь за то, что они подчиняются беспрекословно его указке…»
Но однажды в разговоре с уважаемым им собеседником Шаляпин сказал:
— И чего только не пишут о Шаляпине: и пьяница он, и грубиян, и лентяй, и чуть не грабитель (это кого: не антрепренеров ли?), и только никому в голову не приходит простой штуки — сколько и как Шаляпин работает и что ему стоит каждое выступление!
Однажды, когда на репетиции ему дали бутафорскую балалайку, он в бешенстве сломал ее и закричал:
— Да неужели же за рубль сорок копеек нельзя купить настоящую!
Он требовал настоящего в искусстве, настоящего, взыскательного отношения к тому, что происходило на сцене, он был фанатиком искусства в те годы, когда пел в родной стране, перед соотечественниками.
Он не мог вести себя, как другие знаменитые гастролеры, итальянские залетные соловьи — Ансельми, Баттистини, Карузо. Они пели, не обращая внимания на то, что делалось на сцене до их выхода и что было после их выхода. Они заботились только о том, чтобы оркестр, хор и партнеры вступали вовремя и не мешали им. У них была счастливая жизнь, счастливая старость, как, например, у Мазини; они были «небожителями», о них и писали только лестное и приятное, они уходили на покой богатыми людьми. А Шаляпин воевал с дирижерами: «Есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка, играют, как на балах». Он объяснял это достаточно ясно своему старому другу, художнику Коровину:
— Дирижер не понимает — и не выходит то, что я хочу… А если не выходит то, что я хочу, тогда как же?
Выходит «около», как говорил Шаляпин, но не то, чего он добивался, а добивался он настоящего, полноценного искусства.
Один из любимых Шаляпиным дирижеров, Труффи, говорил:
— Если делать все, что ты хочешь, после спектакля можно лечь в больницу.
Этот же Труффи говорил про Шаляпина:
— Черт Иванович! Постоянно меняет — и все хорошо.
Шаляпин всегда подробно объяснял значение тех требований, которые он предъявлял дирижеру: «…уверенность в оркестровом сопровождении для меня, как для всякого певца, — одно из условий спокойной работы на сцене. Только тогда я в состоянии целиком сосредоточиться на творении сценического образа, когда дирижер правильно ведет оркестр, только тогда могу я во время игры осуществить тот контроль над собой, о котором я говорю».
Известно, что этому контролю над собой на сцене, то есть объективному наблюдению как бы со стороны над каждым своим жестом, интонацией, Шаляпин придавал огромное значение: «…ошибка дирижера выбивает меня из колеи, я теряю спокойствие, сосредоточенность, настроение, и так как я не обладаю завидной способностью быть равнодушным к тому, как я перед публикой исполняю Моцарта, Мусоргского или Римского-Корсакова (лишь бы заплатили гонорар!), то малейшая клякса отзывается в моей душе каленым железом. Мои мгновенные же на них реакции остаются незаметными для публики. Но когда невнимательный, в особенности бездарный, дирижер… начинает врать упорно и путать безнадежно, то я иногда теряю самообладанье и начинаю отбивать со сцены такты…»
Шаляпин старается объяснить частые «инциденты» на сцене, которые вызывали порой возмущение публики и в артистическом мире, и находит им оправдание.
«Говорят, что это не принято, что это невежливо, что это дирижера оскорбляет. Возможно, что это так, но я скажу прямо: оскорблять я никого не хочу и быть «вежливым» за счет Моцарта, Римского-Корсакова и Мусоргского, которого невежественный дирижер извращает и подлинно оскорбляет, я едва ли как-нибудь себя уговорю».
Никто из знатоков музыки, даже самых строгих, взыскательных, не отрицал тонкого, глубокого понимания и умного толкования музыки у Шаляпина.
Он рассказывал подробно, как он работает с дирижерами: «…с дирижерами у меня бывают тщательные репетиции. Я им втолковываю нота в ноту все, что должно и как должно быть сделано на спектакле… все мои замечания, все указания я подробно объясняю… я еще не видел ни одного дирижера, который логично возразил бы мне на репетиции. Если меня спросит музыкант, артист, хорист, рабочий, почему я делаю то или это, я немедленно дам ему объяснение, простое и понятное, но если мне случается спросить дирижера, почему он делает так, а не иначе, то он ответа не находит. Эти дирижерские ошибки, мешающие мне петь и играть, являются следствием неряшливости, невнимания к работе или же претенциозной самоуверенностью при недостатке таланта… Ведь с Направником, Рахманиновым, Тосканини у меня никогда никаких столкновений не случалось…»
Можно сказать с полной достоверностью, что образ, созданный Шаляпиным, сотни раз сыгранный им, как, скажем, Борис Годунов или Мефистофель, не повторялся в точности ни в одном спектакле. Было что-то почти не различимое, но явственное, что отличало Шаляпина в каждом новом спектакле, какой-то штрих, какой-то жест, какое-то новое толкование музыкальной фразы. Это особенно легко проследить на протяжении нескольких лет, когда зачастую менялся и весь образ давно созданной Шаляпиным оперной партии.
Римский-Корсаков говорил о Шаляпине, что его надо не просто слушать, но «звукосозерцать». Это слово «звукосозерцать» надо понимать так, что Шаляпин ни одним жестом, движением, а тем более мимической игрой не нарушал жизненной правды и убедительности образа, который создавал на сцене. Каждый образ он постепенно доводил до большего и большего совершенства, он думал о всех элементах, составляющих образ, о том, как звучит фраза, о том, как облегает его мощную фигуру кольчуга, о том, как ложатся складки плаща.
Перед выходом на сцену он осматривал, как поставлен трон царя Бориса, он думал о том, как будет лежать его рука, как поставить ногу, и вот почему Стасов писал о том, что каждый его жест, каждая поза просится в картину художника.
Нечего говорить о том, как он заботился о слове, о тексте оперы, в особенности иностранного композитора. Он пел в «Дон Карлосе» партию короля Филиппа в собственном переводе и сам перевел на итальянский язык партию Ивана Грозного в «Псковитянке».
Разумеется, подражать Шаляпину — значит быть только бледной копией в ролях, созданных гениальным артистом, но подражать ему в сверхдобросовестном, сверхлюбовном отношении к творческой работе должно, в этом заключается одна из неоценимых заслуг Шаляпина перед всемирным оперным искусством.
Все, кому доводилось работать с Шаляпиным, пишут о его строгом, взыскательном отношении к искусству. Он мог бражничать, мог отменить спектакль, но на сцене был строг и взыскателен к себе, как и к другим. Были у него иногда какие-то провалы в отдельных сценах, пустые места, бывал на сцене временами какой-то отсутствующий Шаляпин, но вдруг, в одно мгновение происходило что-то непостижимое — артист воодушевлялся, загорался, и перед зрителями во весь рост вставал вдохновенный художник, артист. И холод вдруг пробегал по жилам, когда Шаляпин пел: «Тяжка десница грозного судьи» или в «Демоне» обольстительно, проникновенно и страстно звучало: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно…» и дальше: «Он слышит райские напевы…» Только сущий демон мог так пропеть, произнести, чуть иронизируя и вместе с тем обольщая, очаровывая Тамару, эти лермонтовские стихи.