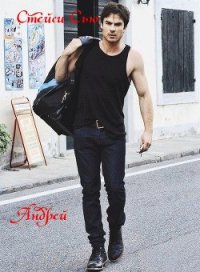Клеопатра - Шифф Стейси (читать бесплатно книги без сокращений TXT) 📗
Узнав об итогах аудиенции в саду, Сенат в полном составе вздохнул с облегчением: сильнее войны между двумя наследниками Цезаря в Риме боялись только одной вещи. У Антония был большой политический вес. Октавиана уважали, даже любили. По пути приветствовать его собирались огромные толпы. Страшнее вражды племянника Цезаря и его любимца мог быть только их союз. Антоний ни на миг не забывал об этом во время разговора в саду. Для Октавиана римская политика была внове, но он уже начал понимать, что толпа жаждет распри, выдумывает кумиров, чтобы потом с азартом их свергать, страстно науськивает противников друг на друга. Так оно и было. А самым главным поджигателем розни по праву мог считаться Цицерон, всегда готовый, по выражению современника, очернить благородного, искусить властного, оклеветать сильного.
Цицерон назвал их противостояние постыдной тяжбой слабости с подлостью. На самом деле все было куда сложнее. Убийцы Цезаря Кассий и Брут все еще были в силе. Сын Помпея, талантливый молодой полководец, оставался в Испании с изрядной частью римского флота. На стороне Секста Помпея была отцовская слава; нельзя было исключать, что он захочет отомстить и вернуть утраченное наследство (у Секста Помпея тем более был повод для мести, что подростком он видел, как его отца обезглавили у египетского берега). Был еще Марк Эмилий Лепид, правая рука Цезаря, разделивший с ним ужин накануне роковых ид и имевший не меньше оснований, чем Антоний, считать себя его преемником. Он контролировал большую часть войска. У каждого легиона был свой консул. В армии на удивление быстро росла популярность Брута[38]. Один Октавиан остался без поддержки военных.
Самый влиятельный человек в Риме после убийства Цезаря, Цицерон, оказался в таком же замешательстве, что и Клеопатра. К кому примкнуть? Сохранить нейтралитет – то была пятая гражданская война на памяти оратора – не представлялось возможным. Цицерон имел исчерпывающее представление обо всех сторонах конфликта и не питал симпатий ни к одной. Октавиан образца сорок четвертого года показался ему маменькиным сынком, нелепым ничтожеством без каких бы то ни было перспектив. «Сейчас он слишком молод, а каким станет с годами, судить сложно», – ворчал Цицерон. Худосочного Октавиана – в городе румяных здоровяков – и вправду трудно было представить полководцем или вождем. Подумать только, мальчишка хотел стать чуть ли не консулом и при этом наивно верил, будто в Риме умеют хранить секреты! (Заметьте, восемнадцатилетнего юношу никто не принимает всерьез, а ведь Клеопатра в таком возрасте уже правила Египтом).
В мае сорок четвертого года Цицерон перестал чувствовать себя в безопасности и решил с оговорками поддержать Долабеллу. Бравый командир четыре года был его зятем. Потом он развелся с беременной женой и долго тянул с положенным по закону возвратом приданого. Когда?то ярый сторонник Цезаря, после ид Долабелла отрекся от своего благодетеля. Он открыто поддержал убийц и намекал на собственное участие в заговоре. Оратор громко приветствовал бывшего родственника, предпочитая оставаться в стороне. Первого мая он назвал его «Мой великолепный Долабелла». Плечистый, пышноволосый красавец умел произносить зажигательные речи, приводившие в восторг самого Цицерона. Он так рьяно и красноречиво защищал заговорщиков, что публика была готова хоть сейчас короновать Брута. «Долабелле, конечно, известно о том, как я им восхищаюсь?» – вопрошал его тесть (Долабелле, надо полагать, было известно нечто прямо противоположное). Новый вождь снес обелиск, возведенный в память о Цезаре, разогнал демонстрацию сторонников покойного консула и от этого только вырос в глазах Цицерона. «Еще никто не вызывал у меня такой горячей приязни», – заявил оратор. На плечах Долабеллы держалась Республика.
Через неделю Цицерон полностью поменял мнение о бывшем зяте. «Желчь человечества!» – выплюнул он в адрес нового врага. Что же изменилось за эти дни? Несмотря на лавину славословий, Долабелла так и не вернул приданое. Потом наступило затишье; Долабелла произнес блистательную речь против Антония, и Цицерону ничего не оставалось, кроме как ее похвалить. Как это часто бывает, личные отношения тесно переплелись с политикой. Двое самых верных соратников Цезаря, Долабелла и Марк Антоний оказались втянуты в сомнительную историю с женой последнего (по этой причине она вскоре стала бывшей женой). Порой начинает казаться, что в Риме было не больше десятка женщин. По мнению Цицерона, Антоний переспал с каждой из них.
Политику не зря назвали «систематизацией ненависти». Трудно более точно описать Рим после ид, раздираемый враждой убийц Цезаря, его наследников и последних помпеанцев, у каждого из которых было свое войско, цели и политические амбиции. Но никто из видных жителей города не испытывал друг к другу такой лютой ненависти, как Цицерон и Марк Антоний. Эта распря длилась не первый десяток лет. Отец Антония умер, не оставив десятилетнему сыну ничего, кроме долгов. Его отчима, знаменитого оратора, приговорили к смерти с подачи Цицерона. От отца Марк Антоний унаследовал любовь к жизни и переменчивый нрав. Он легко переходил от уныния к веселью. Матери удалось привить непутевому сыну интерес к сильным и здравомыслящим женщинам. Без них Антоний, вполне возможно, не дожил бы до марта сорок четвертого года. И все же его личная жизнь обернулась полной катастрофой. Еще в юности стало ясно, что Марк Антоний пошел в отца; репутация отчаянного гуляки затмевала даже славу талантливого полководца. Кутежи молодого Антония приводили его наставников в ужас. Больше всего на свете он любил веселую жизнь, шумные пирушки, распутных женщин. Его отличала редкая, почти безрассудная щедрость, особенно когда речь шла о чужих средствах. К Антонию вполне применимы слова, сказанные об одном из трибунов: «Он проматывал деньги и честь, свои и чужие». Блестящий командир кавалерии был не менее обаятелен, чем сам Цезарь, но не обладал его знаменитой сдержанностью; в сорок четвертом году заговорщики сочли, что такого легкомысленного типа можно не опасаться.
После ид Марк Антоний сделался героем в глазах сограждан, и никто не мог затмить его славу. Пока не появился Октавиан. Клеопатра еще не успела добраться до Египта, когда между этими двумя вспыхнули первые искры будущей вражды. События развивались у всех на глазах. «Октавиан мог залезть на любое возвышение в городе, – повествует Аппиан, – чтобы громогласно обличать Марка Антония». Антоний может оскорблять и унижать меня, как ему угодно, гремел Октавиан, в его силах обречь меня на нищету, но «разве существует закон, по которому граждан можно лишать наследства?» Настойчивый мальчишка добился своего. Антоний его услышал и, в свою очередь, не поскупился на брань и обвинения. Сенат не спешил разнимать противников, предпочитая, как отметил Дион и как предсказывал сам Антоний, «наблюдать за их грызней». Однако люди Антония не желали воевать, а заговорщики наращивали силы. Ему пришлось извиниться и пообещать впредь не давать воли словам. Октавиан последовал его примеру. За первым шатким перемирием последовало второе. В октябре Антоний нарушил его, выдвинув ошеломляющее обвинение: Октавиан пытался подкупить охранников своего соперника, чтобы те его убили. На самом деле охрану пытались всего?навсего перекупить, тогда это было обычным делом. Чтобы обеспечить безопасность Марка Антония, Октавиан вызвался лично стоять на страже у его изголовья. В городе обвинения по большей части сочли нелепыми, но кое?кто в них все же поверил, чем привел Октавиана в натуральное бешенство. В один прекрасный день его застали у виллы Марка Антония: племянник Цезаря яростно колотил в запертую дверь, орал, что невиновен, принося страшные клятвы доскам ворот и сбежавшимся на шум слугам.
Октавиан старательно обхаживал Цицерона и писал ему каждый день, а тот тянул время. Это было чрезвычайно тонкое дело. Октавиан стремительно набирал очки, заговорщики канули в забвение. Молодой политик был чрезвычайно внушаем и мнителен и с благоговением внимал советам старших. Цицерону было нелегко смириться с обожанием, с которым Октавиан относился к Цезарю. «С другой стороны, – рассуждал оратор, – если он проиграет, Антоний нас не пощадит, так что в наших интересах, чтобы он победил». Антоний жаждал расправы, Октавиан – мести. Цицерон бормотал себе под нос слова, которым предстояло стать одной из его железных формул: «Тот, кто сокрушит Марка Антония, положит конец отвратительной, опасной для всех нас распре». Осенью сорок четвертого года защищать общественный порядок или то, что от него осталось, для Цицерона означало нападать на Антония, которого он вдохновенно громил следующие полгода. Неразбериха тех дней сбила с толку Клеопатру, опрометчиво решившую иметь дело с Долабеллой и Кассием и в результате нажившую врагов в лице Антония и Октавиана.