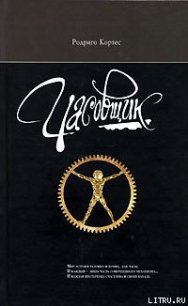Рембрандт - Декарг Пьер (читать полную версию книги txt) 📗
В мастерской жили свои предания. Из уст в уста передавались истории: например, однажды ученики Рембрандта в его отсутствие изобразили на полу серебряные монеты, такие блестящие, словно они только что упали. Рембрандт попался и принялся их под общий хохот собирать.
Впрочем, его ученики составляли разношерстную компанию. Больше всего было молодежи, но среди них встречались и любознательные художники из других мастерских, и недоучки, пребывавшие в этом статусе всю жизнь.
Еще одно предание рассказывает, как Рембрандт однажды оборвал интимный разговор. По этой истории мы можем судить о том, как он организовал пространство своей мастерской, положив за наиглавнейшее правило, чтобы каждый находился наедине с натурщиком. Этот принцип нельзя было применить, кроме как разделив все помещение на ячейки, обращенные к помосту и отделенные друг от друга полотняными перегородками и старыми холстами. В таком улье все были разъединены, не имея возможности заглянуть к соседу, лицом к лицу с обнаженной моделью, которой в тот день была женщина.
Рембрандт, услышав, как один из художников шепчет натурщице: «Ну вот, мы оба наги, словно в земном раю», постучал по стойке двери рукояткой кисти, призывая к вниманию, и сказал: «Вы читали Евангелие: если, находясь в земном раю, вы вдруг узнали о том, что наги, – знайте, вы немедленно будете из него изгнаны».
На самом деле, хотя и несколько сотен флоринов в год, конечно, не мешали, Рембрандту была по душе роль учителя; ему нравилось принимать веселую компанию сначала на Блумграхт, потом у себя дома. Он получал взамен то, чего не могли ему дать алчущие портретов, и был рад видеть в рождающихся вокруг него произведениях развитие идей, автором которых был он сам, различать в них искаженные отражения своих достоинств и недостатков: Говарта Флинка больше привлекала его неистовость, Фердинанда Бола – мягкая теплота, Саломона Конинка – его библейские инсценировки и сопутствующие аксессуары; Гербрандт ван ден Экхаут уделял особое внимание каждой фигуре в композиции и не мог сохранить единство произведения.
Рембрандт видел, что в их картинах бьет через край то, что приходило к нему естественным образом и что он удерживал в разумных рамках. В некоторых учениках он угадывал исключительные способности. Карел Фабрициус работал у него над «Воскрешением Лазаря», в котором многое было почерпнуто из его лейденской картины, а также из версии Яна Ливенса. Однако позднее, в Делфте, Фабрициус станет писать странные статические картины, как то почти галлюцинационное изображение солдата, грезящего у канала, в котором от Рембрандта нет практически ничего. И когда Самюэль ван Хоогстратен написал автопортрет, в котором Рембрандт увидел подлинный образ юности, открывающей в зеркале свою хрупкую силу, свою безграничную волю, – разве мог он предположить, что этот молодой человек станет специалистом в области оптических эффектов и обнаружит в коробочке с маленьким отверстием поразительную иллюзию третьего измерения? Конечно, Хоогстратен, склонный по своей натуре к интимизму, не распространял своего интереса дальше интерьера маленького голландского дома, но он привнес в дорогое Вермееру замкнутое пространство кодированный метод, который стал ответом голландцев на работы с перспективой флорентийцев XVI века. А еще Николас Маас, столь близкий Рембрандту, – откуда было знать, что позже он станет изображать спящих 126 служанок, облокотившихся о столы, заваленные фруктами, на фоне множественной перспективы нескольких этажей дома, в почти вермееровской тишине?
Эти три художника, которых охотно назвали бы лучшими из его учеников и, уж конечно, самыми пытливыми, действительно шарахались из одной крайности в другую, от неистовости и боли Рембрандта к безмятежности голландских жилищ на манер Вермеера. Там не было крайностей: ни трагедии, ни комедии, ни слез, ни хохота, ни детства, ни старости – только молодые люди. Красивые женщины, будь то служанки или их хозяйки, спокойно ходили по дому, готовые налить молока в миску или тронуть клавиши клавесина. Ничего сверхъестественного, поразительного. Все из области обыденного: письмо, рождение ребенка. Набережные каналов пустынны. В переулке женщина выглядывает за дверь. Это голландка, застывшая в своей душевной умиротворенности. Внутри, в пространстве, замкнутом на самом себе, течет размеренная жизнь, наполненная хлопотами служанок, шитьем и игрой на музыкальных инструментах хозяек дома. Тишина, в которой раздается звук клавесина, порождает в живописи изображения идеальных мгновений жизни. Изображения настолько точно выдержаны в каждой точке, что в конечном счете наполняются почти религиозным смыслом небесной гармонии. Небеса сошли на голландскую землю. Вермеер показывал женщину рядом с серебряным кувшинчиком, как раннехристианские художники изображали Богоматерь в разукрашенной церкви. Вермеер писал глиняный кувшин, как Сурбаран – три яблока на столе, помышляя перенести повседневные предметы в область молитвы, облечь эти внешне простые знаки бытия в сосредоточенные раздумья, превратив свои картины в их вместилище, тогда как полотна Рембрандта, вдохновленные традиционными мистическими переживаниями, все так же стремились к назидательности. За несколько лет манера отображения священного изменится, и Вермеер придаст сиюминутному реализму голландской живописи высший смысл, которого он тогда еще не достиг и к которому устремятся три лучших ученика Рембрандта. Поразительный путь, переворот, на который способна только молодость. Они подставят свой парус новому ветру, оставив Рембрандта, как оставляют старый очаг. В искусстве неизведанное нередко привлекает больше, чем верность.
Среди других его учеников необходимо назвать Адриана ван Остаде, живописца крестьянских попоек в стиле Броувера; Говарта Флинка, получившего официальный заказ на прославление Мюнстерского мира, а затем на создание внутреннего убранства новой амстердамской ратуши; а также всех тех, кто во множестве писал библейские сцены, портреты оцепеневших стариков, размышляющих раввинов, – все те сюжеты, к которым приобщил их Рембрандт и от которых эти художники не смогут отойти, увязнув в рембрандтовском реквизите, в той восточной пышности, которая служила ему лишь фоном и которая станет сущностью для продолжателей его искусства.
В общем, к нему приходили художники, которые затем избрали разные направления в голландском искусстве, и это позволяет заключить: черенок-Рембрандт, привитый к стволу национального искусства, пусть и дал мало новых побегов (хотя Карел Фабрициус, Самюэль ван Хоогстратен, Николас Мае – уже много), но, по меньшей мере, на долгое время сохранил его оригинальность, отсрочив упадок и угасание голландской живописи в конце века. В то время как критики из-за рубежа тыкали пальцем в причудливость северной школы, не подчинявшейся теориям Прекрасного в том виде, в каком их стремились навязать Болонья и Рим, мастерская Рембрандта поддерживала свое дикарское отличие, зажигала встречный пал против пожара галантных аллегорий, прокатившегося по всей Европе. Наверное, он знал, на что замахнулась его мастерская, какую роль сопротивления играла она. Посреди разрастающейся смуты он знал, что должен удержаться на вершине большой живописи. Наверное, после него эта требовательность к сюжетам исчезнет. Но не из-за недостатка мужества и энергии. Рембрандт предоставил в распоряжение художников лучшее, что было в нем самом. Ему было неважно, что их порой удивляло его неистовство. Пускай его живопись открывала им слишком многое в нем самом, передавала в общее пользование тайны его личного творчества. Он предпочитал ничего не скрывать, отдавать всю свою творческую силу до тех самых пределов, где искусство разбивало его жизнь.
Безо всяких ограничений, он весь целиком был среди тех, кто приходил подпитываться от него. Он не отдавал себя пассивно, предаваясь в руки любого, кому это взбредет в голову, он желал знать, во что превращается его дар, когда переходит к другим, наблюдая и полное подчинение, и бунт и не предпочитая одного другому, почти как садовник, который наблюдает за судьбой не только своих посадок, но и дичков, которые прививаются или засыхают. Порой Рембрандт подавлял личность. Кто-то смог отдалиться от него и сделать себя заново. Поле творчества можно сравнить лишь с полем мощного светила, чье притяжение заставляет звезды сойти со своей орбиты. Художественную мастерскую нельзя сопоставить с философским идеалом вечной гармонии сфер. Искусство беспрестанно вызывает взрывы, падения, исчезновения, оно идет вперед через погибших и раненых, победы и поражения, союзы и измены, отступления и атаки. Мастер стремится к одному: внушить свои требования. Порой он порождает одних подражателей, отдающих ему взамен лишь искаженный образ его самого и мешающих ему. Но если ему удается передать свою требовательность, та заставляет ученика стать отличным от учителя, словно учитель может довести свою задачу до конца, лишь породив свою противоположность, которой больше нечего делать в его мастерской.