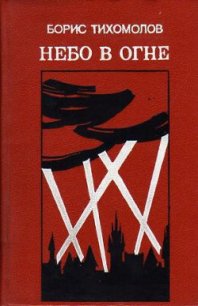На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Близился Новый год. Немцы все еще не теряли надежды вырвать из окружения Сталинградскую группировку. Бои шли тяжелые, но вместе с похоронками в Сибирь шли радостные известия об отступлении немцев. Это осветляло лица надеждами на возврат довоенной, теперь казалось — такой безмятежной, жизни.
ПОД НОВЫЙ ГОД мы возвращаемся из Мауцшино с тяжеловесом. Шли четвертые сутки поездки. Поздний вечер. Пурга. Уголь в яме смерзся, и я с остервенением из последних сил тычу ломом в черную неподатливую стенку, потом гребу лопатой. В яме ничего не видно. Угольная пыль мечется из стороны в сторону, залезая в рот, нос, за шиворот.
— Уголька! Твой мать, уголька! — кричит из будки помощник-казашонок. Через щель я вижу, как он добродушно скалит свои белые зубы. Щурит и без того узкие щелки глаз. Состав пошел на затяжной подъем к Мамлютке— самый тяжелый отрезок пути. Потом будет сплошной спуск к Ишиму, к Петропавловску. На манометре 12 атмосфер, нормально. У меня тоже полный лоток угля. Дело за машинистом. Я прислоняюсь к обледенелой стенке… она медленно наклоняется, превращается в полку… рядом в буржуйке играет жаром кузбасский уголь… я блаженно вытягиваю ноги, потом слышу, как в соседнем купе кто-то кричит. Ну и пусть. Поправляю ватную подушку и… ворот сдавливает мне горло, я лечу в дверь сквозь неистовый мат, ударяюсь о что-то железное, мимо мелькают окровавленные скулы помощника, его испуганные дрожащие губы, разъяренное, налитое звериной злобой лицо машиниста. Я судорожно пытаюсь ухватиться за поручни паровозной будки, но сильный удар выбрасывает меня в ночь, в пургу, в мороз. Я лечу под откос. Окончательно просыпаюсь где-то по дороге, или далеко внизу. Мозжит колено. Из носа тонкой струйкой стекает кровь, в валенки, в рот, в уши, в разорванный ватник набился снег… А наверху, на насыпи мимо меня медленно проползают вагоны: тук-тук, так-так… Одно спасение — ухватиться за них. Там наверху жизнь. Остаться одному в сибирской степи в сорокаградусный мороз в мазутном ватнике — верная смерть. Одно отчаяние, вероятно, дало мне силы вскарабкаться на высокую железнодорожную насыпь. Вагоны двигались еле-еле, обречено отсчитывая стыки и последние минуты моей жизни. Я хватаюсь за свисающую ступеньку. Она волочит меня вдоль шпал. Сил, чтобы подтянуться и взобраться на площадку вагона, нет. Пальцы коченеют, разжимаются, и я, как куль, сваливаюсь на шпалы рядом с колесами. Уже виден последний вагон. Еще попытка. Хватаюсь левой рукой, повисаю вниз головой и, превознемогая боль, забрасываю больную ногу за ступеньку, потом подымаю голову… Состав медленно набирает скорость.
Тело быстро коченеет. Сначала я сжался в комок, потом распластался вдоль деревянной обшивки вагона… Засветились огни Мамлютки… Только бы не пошел «на проход». Но ближе к станции состав тормозит. Из здания появился дежурный с фонарем.
Еще немного, паровоз проходит мимо дежурного и снова набирает скорость. Надо прыгать. Здесь уже страшнее. Меня никто не толкает. Сам. Растопырив руки и ноги, высоко подпрыгиваю в воздух и падаю на соседний путь. Больно. Очень больно. Лечу кубарем, ударяюсь головой о рельсу, наверное, теряю сознание, потом далеко впереди вижу быстро уходящий в пургу хвостовой огонь последнего вагона. Сзади сквозь снежную завесу мигает огонек станции. Хромая и зажав нос, из которого все еще капает кровь, я заковылял туда. Вхожу в жарко натопленную дежурку. На меня смотрят с испугом и удивлением заспанные глаза сторожа и только что вернувшегося дежурного: откуда среди бескрайней снежномертвой степи появилось живое существо в крови и изодранном ватнике? С ходу сочиняю версию о том, что машинист послал закрыть перепускной кран, а я сорвался с лестницы.
— Так почему же он не остановил состав?
— А мы опаздываем, и я помахал ему, чтобы не останавливался, ведь дальше кочегар не нужен.
Меня больше не спрашивают. А может быть и спрашивают, но я уже сплю.
Часа через два дежурный по станции растолкал меня. Он остановил шедший резервом паровоз. Я кое-как взобрался на тендер, на решетку вентилятора и паровоз тронулся.
Кругом мороз. Снег крутит и слепит огромный паровозный прожектор, а я, как король, сижу на решетке. Подо мною мерно жужжат вентиляторы, обдавая теплом и паром. Тем паром, который сварил татарчонка. Но мне он не страшен. Если будет очень жарко, я отодвинусь на край… Я отодвигаюсь… голова сама клонится вниз. Тело колесом огибает решетку вентилятора и уже во сне я подкладываю руку под щеку… Что было в начале сна, я не помню (вероятно, ничего не было), но кончился сон тем, что меня кто-то сильно дергает за ухо. Я пытаюсь брыкаться ногами, но они не слушаются, на них что-то давит. Просыпаюсь. Паровоз стоит на запаске. Вентиляторы давно отключены, но из радиаторов еще идет тепло. Дует морозный ветер. Во сне шапка съехала набок и открылось левое ухо. Я щупаю его — ухо онемело. Но еще мягкое. Тру до боли ухо, щеку, нос. Сползаю вниз. Половина ватника и брюк покрыта льдом. Другая половина мокрая от пара. Тело тоже сырое: зудит и чешется.
Как забитый звереныш лезет помирать в свою нору, я ковыляю в свой вагон и заваливаюсь на ближайшую полку. В соседнем купе дым коромыслом. Пьяные голоса орут длинные украинские песни. Уходит старый, а может быть уже пришел Новый год.
Никто меня не замечает, не видит, и я проваливаюсь в сон без сновидений…
Теперь пока тело спит, самый раз вернуться на подъем к Мамлютке.
Машинист, хоть и был зверем, но паровоз знал, за что ему многое прощали. Он первый почувствовал, «что-то не то, машина не тянет». Что такое «растянуться на Мамлютке», я уже объяснял. Он глянул на манометр и все понял: с его медной трубки свешивалась сосулька! Манометр просто замерз со стрелкой на 12 атмосферах. Машинист сорвался с места, бросился к лопате, раскрыл топку. Лопат пять он бросил в топку, а шестую с углем и злостью воткнул в растерянное испуганное лицо помощника, раздробив ему нос и скулы.
— Где кочегар?!
Распахнув дверцу в тендер, машинист увидел меня, мирно сопевшего на куче угля. Это налило кровью его глаза и вышвырнуло меня с паровоза. Вдвоем с окровавленным помощником они чудом сумели «дать пар» и вытянуть тяжеловес на подъем.
Километров через двадцать машинист сообразил, что выбросил меня на верную гибель. После татарчонка я был вторым, и на той же Мамлютке.
В Петропавловск состав пришел под самый Новый год. Машинист уже отошел и бросился звонить в Мамлютку. Но там произошла смена дежурных и никто ничего не знал. Из депо дали команду направить поисковую группу. Но легко сказать, на далекой Мамлютке в новогоднюю ночь в войну найти трезвых мужиков, способных в пургу и мороз организовать поиск. Да и как искать ночью? Ведь кочегар все равно замерз, а труп занесло снегом.
Утром 1 января 1943 года на подъеме к Мамлютке искали мой труп. Это организовал оробевший машинист, а может быть его жена с четырьмя, мал-мала меньше, детьми. Ведь понимал же он, если его простили за татарчонка (тот нарушил «Правила техники безопасности»), то вряд ли второй труп пройдет ему так же легко.
А в то же время с меня, спящего, кто-то стаскивает разорванный и мокрый ватник, брюки, валенки, смывает кровь, потом приходит врач, перевязывает ухо, голову, окровавленные разодранные коленки… Тело спит. Я бы сегодня сказал: сработали предохранители и полностью отключили нервную систему. Тело отдыхает и готовится к новым передрягам.
Мастер меня не ругал, и я трое суток валялся на полке. Еду приносила воспитательница. Четвертую ночь уже не спалось. Ломило ушибленный локоть, с подмороженного уха сползла повязка, было душно, но ватник сбрасывать не хотелось. Я тупо смотрел в противоположное окно, тоскливо думая о предстоящей встрече с машинистом… Вдруг на фоне черного окна мелькнула тень. Она ощупью стала пробираться к моей полке. Худенькая девичья рука, зажатая в кулачок, юркнула мне под ватник. Сашка! Ее огромные глаза смотрели на мои бинты и обмороженную распухшую физиономию с детским ужасом, через который светилась уже настоящая женская теплота. Я хотел взять ее кулачок в свою руку, но она испуганно выдернула его и бросилась бежать. Из разжатого кулачка на постель высыпалась грудка пайкового сахара. Что я тогда думал — не помню. Знаю только, что решил отнести ей первый же наркомовский паек (его получали только паровозники). Так и сделал. Но это было уже недели через две. Днем я пробрался в женское общежитие. На ее койке лежал пустой соломенный матрац. Несколько дней назад их группу отравили на работы по полустанкам Омской железной дороги. Больше я Сашку не встречал. И только сейчас представляю себе, сколько надо было иметь мужества маленькой Сашке, чтобы среди ночи залезть в закрытый кочегарский вагон, который и днем-то девчонки обходили стороной. О наших вагонах среди них ходили россказни, будто кочегары ловят девчонок, затаскивают в вагон и там насилуют всей группой.