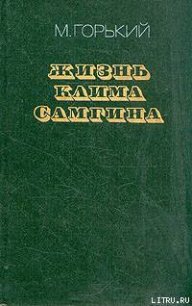Фёдор Шаляпин (Очерк жизни и творчества) - Никулин Лев Вениаминович (читать книги онлайн регистрации txt) 📗
Однако дня через два позвонил Дворищин, близкий человек Шаляпина, и сказал:
— Федор Иванович просил вам передать, что в Кронштадте петь будет.
Но этот концерт в Кронштадте не состоялся по военным обстоятельствам.
Единственный случай, когда пришлось увидеть Шаляпина за кулисами, в его артистической уборной, имел особый интерес для нас потому, что открылась еще одна тайна его творчества.
Он снимал грим Еремки, в зеркале все еще отражалось испитое, страшное лицо варнака, бродяги. По мере того как исчезал этот образ и появлялись мягкие, округлые черты лица артиста, менялся и самый тон его разговора с нами.
Когда исчез Еремка, когда снят был грим и вместо лохмотьев на статной фигуре Федора Ивановича оказался пиджак, когда он небрежно и изящно завязал галстук, исчез и грубоватый, немного разухабистый тон, а прощаясь с нами, Шаляпин превратился в учтивого, приятнейшего хозяина, принявшего гостей не очень дружелюбно и сконфуженного этим обстоятельством.
Он проводил нас до дверей, галантно, с врожденной грацией подхватил под руку знакомую даму и, улыбнувшись, пошел к выходу.
Казалось странным, неужели этот учтивый и обаятельный человек только что свирепо и грубо обругал почтенного, старого человека, литератора, критика?
Неужели этот человек полчаса назад явился нам в образе бродяги, горького пьяницы, душегуба Еремки?
Действительно, это казалось чудом.
15
Видный литератор дореволюционного времени утверждал, что вся артистическая карьера Шаляпина — это работа над образом Мефистофеля. Это, пожалуй, преувеличение, но можно сказать, что вся артистическая деятельность Шаляпина была неустанным, творческим, упорным трудом. Уже говорилось выше о том, что некоторые почитатели Шаляпина думали, будто артист не работает, все дело в таланте, в интуиции художника. И потому эти наивные люди, вероятно, удивились, когда узнали, что артист не работает только тогда, когда он спит. Так справедливо утверждает Дорошевич.
«За обедом, ужином, в дружеской беседе он охотнее всего говорит, спорит о своих ролях».
«Я не знаю артиста, который бы работал больше, чем этот баловень природы и судьбы».
Люди искусства, литераторы, которым приходилось беседовать с артистом, вспоминают его долгие споры, суждения о том, как надо спеть ту или иную фразу, каким жестом надо подчеркнуть ее смысл. Любая застольная беседа в бессонную ночь превращалась в диспут об образе Мефистофеля, о том, как надо пропеть фразу из «Моцарта и Сальери», драгоценный пушкинский стих. И потому правильно такое, казалось бы, парадоксальное утверждение: у Шаляпина не было свободного времени, потому что все свое «свободное» время он был занят самой важной для себя работой: думами о том, как воплотить тот или иной образ, как изменить прежнее толкование роли и найти новое, более яркое, более глубокое и правдивое. Эти размышления и беседы артиста о своей работе были интересны для каждого, кому пришлось их слышать.
Во многих главах своей книги, посвященных искусству пения, он развивает основные положения своего блестящего творческого опыта:
«…Всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства, а там, где есть чувство, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний».
Это требование — разработку интонации фразы — Шаляпин считает обязательным при исполнении русских опер. «В этой интонации нуждается и западная музыка, хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации. Этот недостаток — жесточайший приговор всему оперному искусству. Это сознание у меня нс ново. Оно мучило меня долгие годы».
Здесь особенную ценность для нас имеет замечание Шаляпина о высоком достоинстве русской оперной музыки, которое он называет «психологической вибрацией». Иными словами, он говорит о глубокой содержательности музыки, об особом даре русских композиторов выразить в звуках характер действующего лица, его психологию, его духовную сущность. В западной оперной музыке подобной содержательности и психологического проникновения, умения выразить в звуках образ героя почти нет, и потому мастер интонации, артист, поразительно передававший в звуках переживания действующего лица, Шаляпин достигал полного совершенства именно в русских операх.
«Можно по-разному понимать, что такое красота… Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя… Двух правд чувства не бывает. Единственным правильным путем к красоте я потому принял для себя правду».
На этом пути к красоте и правде формировался творческий метод артиста. Позднее Шаляпин сделал интересную попытку рассказать о нем.
«Как возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно…» — начинает артист.
И Шаляпин довольно подробно рассказывает, от чего он отталкивался в начале своей работы.
Принесли партитуры оперы, он прежде всего знакомится с действующим лицом, которое ему надо воплотить на сцене: «Хороший или дурной, добрый или злой, умный, глупый, честный, интриган или сложная смесь всего этого…»
Шаляпин старается правильно прочитать произведение:
«Я должен выучить все роли, не только свою роль, — все роли до единой… Реплику хориста, и ту надо выучить… В пьесе надо чувствовать себя как дома. Больше, чем как дома».
Он утверждает, что надо знать произведение от первой ноты до последней:
«Не зная произведения от первой ноты до последней, я не могу почувствовать вполне и стиль того персонажа, который меня интересует непосредственно… Усвоив все слова произведения, все звуки, продумав все действия персонажей, больших и малых, их взаимоотношения, почувствовав атмосферу времени и среды, я уже достаточно знаком с характером лица, которое я призван воплотить на сцене… Словом, я его знаю так же хорошо, как знаю школьного товарища…»
Шаляпин, гениальный реформатор русского искусства, был яростным противником всякого формализма.
Каждый образ, созданный им на сцене, был вызовом теории «искусства для искусства» и сокрушал всякого рода формалистические изыски.
Он ценил благородные традиции русского оперного искусства:
«О традиции в искусстве можно, конечно, судить разно. Есть неподвижный традиционный конец, напоминающий одряхлевшего, склерозного, всяческими болезнями одержимого старца, живущего у ограды кладбища. Этому подагрику давно пора в могилу, а он цепко держится за свою бессмысленную, никому не нужную жизнь… Не об этой формальной и вредной традиции я хлопочу. Я имею в виду преемственность живых элементов в искусстве… Прошлое нельзя просто срубить размашистым ударом топора…»
«…Никак не могу вообразить и признать возможным, чтобы в театральном искусстве могла когда-нибудь одряхлеть та бессмертная традиция, которая в фокусе сцены ставит живую личность актера, душу человека… и слово!.. Позволю себе сказать, что и я в свое время был в некоторой степени новатором».
Здесь Шаляпин явно скромничает — он был истинным новатором в области оперного искусства, и дальше он объясняет, в чем состояла его новаторская роль:
«Я собственной натурой почувствовал, что надо ближе проникнуть к сердцу и душе зрителя, что надо затронуть в нем сердечные струны, заставить его плакать и смеяться, не прибегая к выдумке, трюкам, а, наоборот, бережно храня высокие уроки моих предшественников, искренних, ярких и глубоких русских старых актеров…»
И дальше Шаляпин образно и с острой иронией приводит пример режиссерского трюка в «Русалке» Даргомыжского. В то время когда Наташа горестно переживает измену князя, режиссер заставляет статистов перетаскивать на себе мешки с мукой на мельницу.
«Наташа в полуобморочном состоянии сидит в столбняке, еще минута — и она бросится в воду топиться, а тут мешки с мукой!..»
«Для чего это нужно?» — спрашивает Шаляпин «новатора»-режиссера.
«…Надо же как-нибудь оживить сцену».