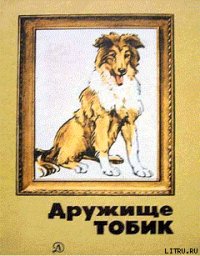Справедливость силы - Власов Юрий Петрович (бесплатные версии книг TXT) 📗
Господи, за одну глупость платить практически жизнью, генеральным изломом ее! Дикость ведь! Тогда многие карьеры строились на доносах. Многих сметали с пути (из жизни тоже) доносами. Исключат из партии, погонят из армии – и скребись на карачках по жизни с "волчьей" характеристикой. И будь это единичный случай! Господи, оглянись! На что ж направлялись и измалывались силы во все десятилетия: не на развитие способностей, спокойное созидание, а на преодоление среды, иначе говоря – всех этих мокриц, этой злобы, зависти, неправды.
А вот бойкотом я был обложен по-прежнему. Тяжкий крест, когда впереди такое испытание. А ну коли сорвусь? Болезнь грызет, мысли о будущем… Как же я клял себя!.. Дурень, кругом виноват!
Катастрофа, но уже не только для моей спортивной жизни. Вообще катастрофа, так не оставят – это гражданская смерть!
Я не сомневался в силе. Но случайность… Вот такая случайность, как эта болезнь. И мало ли прочих случайностей? Одна объективность судьи чего стоит! И все может решить ничтожная случайность – вдруг травма!
А кругом веселье: все постепенно заканчивают соревноваться. Лишь мне выступать в самый последний день Игр. Круче не закрутить пружину испытания. Весь на излом – выдержу ли. И только тренер со мной…
Мой друг, жизнь– это всегда акт воли!
Глава 56.
Но Рим! Я, верно, вытоптал все площади, выщупал тепло его щербатых стен. Город породило солнце – этот оборот не ради красивости. Нет, солнце имеет прямое отношение к духу города и народа.
Красота наднациональна, она для всех, она ради человека, она в общем потоке созидания. Она сплавляется в сознании всех. Она для преодоления животного в людях. Нет прекрасного, невозможно прекрасное, если оно унижает достоинство. Скудна и опасна лишь национальная мера великого. Все одежды малы и скоморошливы для великого. Оно, прекрасное,– общее; оно стирает ограниченность и тупость шовинизма. Красота по природе исконно национальна и в то же время разрушительна для национальной узости, для национальной обособленности, тем паче исключительности. Я сидел на полу и, задрав голову, читал росписи Микеланджело в Сикстинской капелле – фрески на потолке и алтарной стене. Рядом сидели, вставали люди.
И тот, не музейный Рим, очень задел сердце. Я входил в него без слюнявой восторженности. Вот оно, "прекрасное далекое",– здесь складывались и неповторимые "Мертвые души". Как заметны они отсюда! Как уродливо нелепы те мертвые души для России! Сколько слов, холстов, лиц! Без временной очередности они выговаривали самые важные чувства!
Я разделяю слова Герцена: "Наука, имеющая какую-либо цель вместо истинного знания,– не наука. Она должна иметь смелость прямой, открытой речи". Я распространяю это определение и на искусство. Нет смелости прямой речи – нет искусства, есть только расчет.
Бесплатный проезд по Риму упрощал бродяжничество: стоило показать удостоверение участника Олимпийских игр. На моем черным вытиснуты цифры: 14538.
Этот город не для туристов. Этот город надо принять сердцем. Не в туристском пробросе мерить "музейные" километры.
Глава 57.
Я привез с собой транзистор – приз за победу на соревновании. Один из первых советских транзисторных приемников, весьма далекий от совершенства.
Перед сном рылся в эфире. Редкую ночь не выуживал созвучные настроению "Кончерто гроссо" Генделя или "Бранденбургские концерты" Баха; а то скрипичные "барокко" Корелли и Вивальди. Раз почти до рассвета слушал скрипичные дивертисменты Моцарта. Сами дивертисменты отзвучали за какие-то полчаса, но я их слышал до рассвета. И они казались развлекательными, как это утверждает Музыкальная энциклопедия. Но какое же это искусство – удерживать мысль, чувство в гармонии единственно "простым"! Как на поворотах "простого", приемами "простого" торжествует, образуется сложное!..
Помню свою комнату до мельчайших подробностей. Под подушкой всегда приемник. Днем не до него. А вечерами я с ним уходил в тишину. Музыка – это величайшая тайна, в которой вдруг начинаешь слышать себя и других…
Об этом приемнике не ведал даже тренер. Я стыдился, почитал слабостью и ни с кем не говорил о музыке.
Я полагал тогда, будто лишь для юности характерно преобладание духовных интересов над практическими. А потом убедился, годы часто превращают в ничто именно смысл практических интересов. Дух, мысль отменяют все ценности, превращают их в ничтожество. Железный частокол мнений и выгод ничто перед правдой. Постылы жизнь и люди, когда ничего от души, когда все на выгоду.
Глава 58.
Для меня спорт чудесен решительным отсечением прошлого. Все старое не имеет смысла в приложении к новым целям. В новом движении время сбрасывает прежний смысл. А здесь, в Риме,– ожидание. Обилие времени. Возможность наконец разобраться в каждом шаге. Это может показаться не совсем понятным, но в гонке за результатами, в непрерывности гонки такие дни ошеломляющи.
Нет ничего. Ты, время…
И вот тогда начинаешь видеть все, что проскальзывало серыми, смутными образами под усталью. И еще, конечно, заявлял о себе напор высвобождаемых сил – следствие отдыха, сосредоточения энергии.
За сутки до выступления я подвергся ударному обкалыванию. Нарывы запрятались в толщу мышц, багровость опять засмуглил загар. Нарывы зрели, я слышал, как пульсируют в толще, но антибиотик их укротил… на время. На время, нужное для соревнования. Жидкая боль, поразившая ногу до паха, блаженно растворилась, одарив свободой движений. И горячка поостыла, особенно после новокаина – уже перед самым помостом. Самые беспокойные нарывы залепили пластырями. Они заметны на римских фотографиях.
Стеной находил тот день.
Жар, жара, затравленность одиночества. Кусок в горло не лезет. Я ступал по кафельному полу, запирался. Не напрасно не сдал ключ, который истерично потребовал от меня Громов – в знак недоверия. Я наотрез отказался: или сразу отправляйте, или буду хозяином своей комнаты…
Я брал из сумки маленькие бутылки пива и складывал в раковину, пускал холодную воду. Сидел, ждал четверть часа. Если не запираться – могут застукать с пивом, тогда уж точно конец. Открывал пиво – бутылку за бутылкой – и выпивал. Теперь можно идти есть. От жара и жары и горьких мыслей меня тошнило. После пива это чувство исчезало. Теперь можно, преодолевая отвращение, напихиваться едой. Надо напихиваться.
Из столовой нес сумку с фруктами, молоко. Жгуче грело солнце. Прихрамывал – от нарывов тянущая боль, в паху – шишки лимфатических узлов.
Не развалиться под гнетом жары, жара и зла. Сохранить вес и силу.
У себя в комнате смотрел сквозь жалюзи на плывущий в зное город…
Глава 59.
Воробьев вспоминал: "В сопровождении почетного эскорта – четырех чемпионов Игр – наш тяжеловес направляется в "Палаццетто делло спорт…" Разыгрываются последние медали.
Вес у Юрия боевой – 123 кг, негр Брэдфорд самый тяжелый – 143, а второй американец, Шемански, легче советского атлета. Команда толпится около Власова.
Атлет начинает готовиться к выходу на помост. Тщательно бинтует кисти рук, колени. В прошлом у него были травмированы колени. Кроме того, если колени забинтованы, легче вставать с весом, так как улучшается амортизационная отдача мышц ног…" (Воробьев А. На трех Олимпиадах. Хельсинки. Мельбурн. Рим. Свердловское книжное изд-во, 1963. С. 167-168)
Вес Брэдфорда был не 143, а 132,8 кг. Шемански весил 112,5 кг, я– 122,7 кг.
Бинты не могут помочь встать с весом. Это глупость.
Почетный эскорт? В "Палаццетто делло спорт" я пришел с Богдасаровым и массажистом Л. Н. Смирновым, кстати, виновником нарывов. Он втер под кожу тальк.
Команда не толпилась возле меня. Бойкот сохранял силу. На всех чемпионатах, кроме варшавского, я выступал в одном составе: тренер, массажист и я (кстати, об этом писал и Куценко в отчете о варшавском чемпионате)-не из-за пренебрежения к товарищам, а из-за ненужности и бесполезности толчеи. Неотлучно дежурил врач с камфорой, но она понадобилась после соревнования не мне, а Романову, сердцем пережившему ту ночь в "Палаццетто". Ему стало худо в четвертом часу утра, сразу после моего последнего подхода.