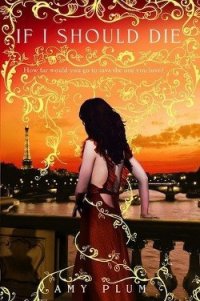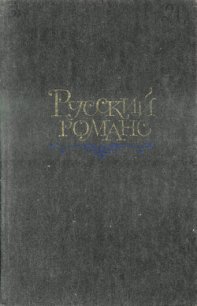Чаадаев - Лебедев Александр Александрович (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Прошло много лет. Герцен был уже в Англии и издавал свой знаменитый «Колокол», случайно он встретился с Печериным. В «Былом и думах» есть глава, посвященная этой встрече. Глава называется не «Владимир Сергеевич Печерин», она называется «Pater V. Petcherine» (отец В. Печерин, по-латыни).
Кто-то сообщает Герцену:
«— Вчера я видел Печерина.
Я вздрогнул при этом имени.
— Как, — спросил я, — того Печерина? Он здесь?»
...Его преподобие Печерин!.. «И этот грех лежит на Николае...»
И вот — встреча. Встретились два русских человека на чужбине, два политических эмигранта. И два пути.
«...Вышел небольшого роста, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком:
— Вы желали видеть Печерина?
...Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет; видно было, что под этими морщинами много прошло и... умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым, особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи и в его движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии.
Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова 12, при которой я был, о том, как его студенты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях — мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепе под граненой шапкой — не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел...»
Печерин попросил Герцена прислать ему некоторые его статьи. Потом Печерин и Герцен обменялись несколькими письмами. Они так и не поняли друг друга. Печерин, по всей видимости, прочитал герценовские «Русский народ и социализм» и знаменитое «О развитии революционных идей в России». Он писал в этой связи Герцену: «У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что „фаланстер — не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может только быть видоизменение николаевского самовластия“. Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, т. е. что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли перерождать общество на таких основаниях?»
В своей книге «О развитии революционных идей в России» Герцен, между прочим, писал: «Фаланстер — не что иное, как русская община и рабочая казарма, военное поселение на гражданский лад, полк фабричных, Замечено, что у оппозиции, которая открыто борется с правительством, всегда есть что-то от его характера, но в обратном смысле. И я уверен, что существует известное основание у страха, который начинает испытывать русское правительство перед коммунизмом: коммунизм — это русское самодержавие наоборот».
«Говоря так, — читаем мы в комментариях к последнему изданию сочинений Герцена, — Герцен имеет в виду тенденции регламентирования и уравнительности, присущие утопическим представлениям о коммунизме».
Вспомним в этой же связи и уничтожающую критику уравнительных идей вульгарного коммунизма в трудах К. Маркса.
Печерин просто смешал воедино представление о коммунизме как действительном движении истории с утопическими теориями коммунистического общества, придав критике Герценом исторической ограниченности некоторых коммунистических утопий того времени смысл утверждения этой ограниченности в качестве исторически неизбежного будущего всего человечества.
Герцен отвечал Печерину, говоря, что «тоска современной жизни — тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери, — замечал Герцен, — беспокоятся перед землетрясением».
Но «землетрясений» Печерин уже боялся теперь больше всего.
«Что будет с нами, — отвечал он, в свою очередь, Герцену, — когда ваше образование... одержит победу? Для вас наука — все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука — так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, и наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме него... Если эта наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели по крайней мере возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: „Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах: рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем! Вот, что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?“
И опасения Печерина и даже многие из возражений, сделанных ему тогда Герценом, теперь производят впечатление суждений достаточно наивных. Но здесь важно подчеркнуть иное: Печерина ход жизни пугал. Если раньше его приводило в отчаяние именно оледенение жизни, которое наступило в николаевской России, то теперь оледенел уже он сам. Законсервировавшись, его идеалы утратили связь с живым течением бытия. Сама объективная реальность стала теперь ему чужда и враждебна. Он не находил общего языка с Герценом: для Печерина традиция русской свободной мысли навсегда порвалась как раз в том месте, в котором Чаадаев как раз и связал ее, вновь стянув своим «Письмом» порванное было в тот момент ее звено. За это-то звено и уцепились тут же Герцен и другие, вновь потянув за него всю цепь, — свободная мысль пошла дальше.
«Письмо Чаадаева, — писал Герцен, — прозвучало подобно призывной трубе; сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса; на арену вышли молодые бойцы, свидетельствуя о безмолвной работе, производившейся в течение этих десяти лет» — то есть со времени разгрома декабристского восстания. С чаадаевского «Письма», по словам Герцена, «начинается точка перелома общественного мнения».
Правда, Чаадаев выступал с религиозной доктриной.
Но религия — дело достаточно сложное.
Есть обывательская «религиозность» — почитание общепринятого предрассудка, исполнение ритуала — очень распространенный вид казенной религиозности. Это вариант религии «для широкого потребления», будь то буддизм, или мусульманство, или православие. И дело тут ведь совсем не меняется от того, какой именно это ритуал, чему или кому именно поклоняться считается в данном случае признаком хорошего тона и свидетельством гражданской благонадежности. В этом случае почитают ведь не «божество», а вполне земные, реальные вещи. В этой казенной религии нет ничего мистического.
Но бывает и религия — культ какого-то «верховного существа», действительное обожествление этого существа, приписывание ему сверхчеловеческих свойств, наделение его некоей всеобъемлющей гениальностью.
«Мы, — говорил Ф. Энгельс, — хотим устранить все, что объявляет себя сверхъестественным и сверхчеловеческим, и тем самым устранить лживость, ибо претензии человеческого и естественного быть сверхчеловеческим и сверхъестественным есть корень всей неправды и лжи... Чем „божественнее“, то есть нечеловечнее, является что-либо, тем меньше мы в состоянии им восхищаться... Человек должен лишь познать самого себя, сделать себя самого мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы...» 13
12
Крюков Дмитрий Львович (1809—1845) — историк и филолог, профессор Московского университета, член кружка Герцена и Грановского в сороковых годах.
13
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I, стр. 592—593. 154