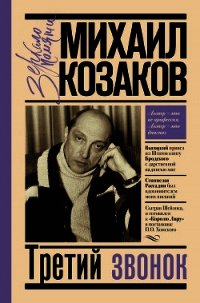Рисунки на песке - Козаков Михаил Михайлович (читаемые книги читать .txt) 📗
– Григорий Павлович, а вы сидите, так спокойно, спокойно, а потом резко, – и сам истерически: – Прекратите эту браваду!!!
В зале тишина, мертвая. Охлопков с улыбкой, как будто это ему раз плюнуть:
– Понятно? Ну и хорошо, что понятно… – Спускается в зал к своему столику. Практиканты ГИТИСа, театроведы что-то заносят в свои блокноты.
А иногда, не дождавшись и первых двух реплик, сразу с места, с криком:
– Здесь не так! Это все ерунда! – уже в два прыжка на сцене.
– Николай Павлович, но у автора именно так…
– У автора, у автора, предоставьте мне знать, как у автора! Илья Михайлович! Дайте здесь музыку. (Оркестрантам.) Товарищи, товарищи, соберитесь быстро! Илья Михайлович! Ну же!
– Одну секунду, Николай Павлович. Товарищи, от третьей цифры! И!
А Охлопков уже показывает Ханову и его экипажу, как они должны идти по дороге цветов. И идет сам, печатая шаг, седая голова гордо поднята, глаза горят. В зале, конечно, аплодисменты.
Играл за всех. Всегда. Не всегда по существу, но всегда эффектно. После его показов играть сразу было трудно, даже стыдно: выглядело жалким эпигонством, казалось воровством, но следовало подчиняться. Если авторский текст и ситуация сопротивлялись его решениям, подминал и текст, и ситуацию. Вставлял свои реплики, а то и стихи. Прекрасно прочел за Коновалова, выйдя на помост, из «Медного всадника»: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!» Стихов в пьесе Штейна, разумеется, не было и в помине.
Когда Илюша Барков и Светлана Барусевич, игравшая его невесту, шествовали по «дороге цветов», Охлопков играл за Баркова. Обняв зардевшуюся от смущения Барусевич, шел с ней от помоста по дороге через зал (последний уход перед гибелью) под музыку Листа, импровизируя стихами молодого Пушкина:
Танцевал странный танец за Линду – Карпову; накинув на голову серый платок, с криком: «Вася! Васенька!» – выбегал со слезами на глазах за жену Коновалова – Козыреву…
Когда дошла очередь до моей сцены, я ждал, что он научит, как произносить длинный, напыщенный монолог моего лейтенанта, обращенный к профессору перед тем, как его арестовать. Не показал. А строго из зала по микрофону сказал:
– Стой на одном месте, не двигаясь, не махай руками и быстро без пауз говори, а потом командуй и уводи.
И все. На сцену не вышел. Понимал, что из этого монолога ничего не выжмешь, навара не будет. Зато по многу раз показывал встречу бывших интербригадовцев Трояна и Коновалова. В номер гостиницы «Астория» по той же дороге цветов входит Ханов, и Троян видит друга, каким-то чудом выпущенного из тюрьмы. Во время этого замечательного показа Охлопков придумывал лучшее место спектакля:
– Боря, Боречка, не торопись с текстом. Саша, замри! Замрите оба. И шепотом, шепотом песню, которую пели в Испании.
Выскочил сам на сцену и показал, как ее надо петь, импровизируя слова «Бандьера росса… Бандьера росса…» И поднял вверх сжатый кулак:
– Салют, камарадо! И ты, Саша, тоже подними кулак и шепотом, как заговорщик, подхвати песню. А потом, Боря, бросайся ему на грудь… Да не так! Не так! Не сбегай по ступенькам обниматься, как институтка… а бросайся! Я же сказал, бросайся! Прыгай оттуда на грудь… Не можешь! Эх ты!
– Николай Павлович, Ханов не выдержит, упадет в зал с дороги…
– Выдержит. Видишь, какой он здоровый? Не выдержит… не выдержит… Я выдержу!
И, к ужасу жены, Е.И. Зотовой, сидевшей в зале, оказался опять на сцене уже вместо Ханова и, обращаясь к Толмазову:
– Ну же, прыгай, не бойся… Стой! Сначала песню… Подожди, давай сыграем встречу…
Играют, шепотом поют песню, подняв кулаки. Охлопков уже в образе и выдерживает повисшего на нем нелегкого Толмазова. Аплодисменты смотрящих. Зотова облегченно вздыхает. Эта сцена стала лучшей в спектакле и неизменно заканчивалась аплодисментами зала.
Премьера «Гостиницы “Астории”» 27 декабря того же 56-го года прошла с большим успехом. Правда, мнения знатоков были диаметрально противоположными: одни сравнивали Охлопкова с Мейерхольдом, другие плевались, третьи смеялись, а многие плакали на спектакле. Л.Н. Свердлин, с которым мы часто беседовали потом, встречаясь то в «Гамлете», где он играл Полония, то путешествуя по Барнаульской области в бригаде Театра Маяковского по обслуживанию целинных земель, рассказывал мне о показах Мейерхольда при полном зрительном зале, на которые даже продавали билеты. Лев Наумович говорил, что после Мастера было просто невозможно играть, да еще при зале, где сидели не только профессионалы. А что делать? Показ – это был метод Мейерхольда, который стал методом служившего у него когда-то Охлопкова. Уйдя от Мейерхольда, он никогда больше не играл в театре, боялся рампы, но много и успешно снимался в кино – еще в немых фильмах. У С. Эйзенштейна, у М. Ромма, у А. Столпера…
В кино он играл мягко, органично, обаятельно и, насколько позволял материал, правдиво. Однажды молодой Олег Ефремов, сидя с ним за рюмкой водки на даче у Штейна, сказал:
– Николай Павлович, мне кажется, что актер Охлопков, которого мы все знаем и любим по фильмам, не смог бы играть у Охлопкова-режиссера!
Охлопков почувствовал скрытый намек «неореалиста» Ефремова и, улыбнувшись, ответил:
– В таком случае Охлопков-режиссер уволил бы бездарного Охлопкова-актера, и тот был бы вынужден пойти к Олегу Ефремову…
По правде говоря, мне тоже казалось, что Ефремов прав. Показать кусок – это одно, но сыграть целую роль, вписаться в охлопковский рисунок – куда трудней! Я это почувствовал на своей шкуре, когда начались наконец сценические репетиции «Гамлета»…
В Ленинграде, в шикарном номере «Астории», когда он «вручал» меня Кашкину, Охлопков сказал, что мы вольны менять мизансцены и внешний рисунок роли. Он инструктировал Кашкина, в каком направлении должно меня вести. Много говорил о правде, органике, о том, что он видит во мне мхатовца, который должен играть эту роль глубоко, современно, от себя, без лжеромантических интонаций, но одновременно взрывчато, темпераментно, резко, трагически и с юмором, обязательно с юмором и сарказмом.
Все им сказанное совпадало с тем, что и мне казалось нужным для роли, применительно к моему тогдашнему мироощущению. Ведь тогда на мое поколение обрушилась информация о недавнем прошлом. «Порвалась связь времен…», «век расшатался… и скверней всего, что я рожден восстановить его», «Такой король! Сравнить обоих братьев, Феб и Сатир». Ассоциации, параллели, Ленин – Сталин, «пионер, за дело Ленина – Сталина будь готов!» – «Всегда готов!»… «Улыбчивый злодей, злодей проклятый, мои таблички… надо записать, что можно жить с улыбкой и с улыбкой быть подлецом, по крайней мере в Дании». Репетировал я с партнерами второго состава, с В. Любимовым – Королем, С. Морским – Полонием, К. Лыловым – Лаэртом. Под наш с Зайковой ввод входили в спектакль еще один Король – К. Мукасян, Королева – З. Либерчук, жена И.М. Мееровича, ближайшего клеврета Охлопкова, и Горацио – Р. Афанасьев. По будням сцена была занята репетициями «Астории», и только по выходным Кашкин работал с нами, готовясь к предстоящему показу Николаю Павловичу. На сцену я выходил в уже сшитом для меня костюме: черный бархатный колет с пуфами (а-ля Скофилд), трико (как у Самойлова), туфли.
Получив разрешение Охлопкова менять мизансцены, я уговорил Кашкина читать монолог «Быть или не быть?», сидя на суфлерской будке. Слава богу, никаких игр за решеткой и выпадающего из рук кинжала.
В сцене с Офелией Охлопковым была разработана целая партитура игры с белым газовым шарфом. Гамлет брал из ее рук легкий, как пух, шарф, держал, баюкая на вытянутых руках, подбрасывал его, любовался им. Затем этот шарф-символ работал в сцене похорон Офелии. Гамлет доставал его из могилы и, подняв над головой, говорил знаменитое: «Я так ее любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!» Мы с Кашкиным не решились отменить шарф совсем – это было уже вне нашей компетенции, – но играл я с ним в обоих случаях кратко и старался не акцентировать внимание на этой режиссерской находке.