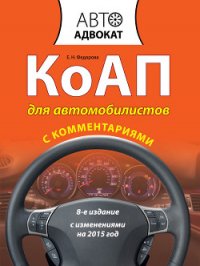На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
Но не получилось. Может быть, слишком велика была разница в возрасте, может, он слишком подавлял ее своим авторитетом, принципиальностью и безапелляционностью. В общем, она родила ему дочь и ушла от него. Трехнедельную девочку Ганичка забрал к себе. Молодая мать, очевидно, решила, что ребенок будет только стеснять ее в дальнейшей жизни, и охотно отдала дочку отцу.
Ганичка влюбился в маленькую дочку, и вся его жизнь обрела единый смысл и единую цель – вырастить это крошечное теплое существо и воспитать умного, мыслящего, содержательного человека – свой образ и подобие. У Ганички были, несмотря на его высокое положение и достаток, свои «железные» принципы. Он был против всяких прислуг и домработниц. Растил девочку самостоятельно, признавая только общественные формы заботы о детях, в данном случае ясли. Дома же он сам кормил ее, сам купал и сам стирал пеленки.
Как раз вскоре после рождения Мальки – так он звал ее, от слова «маленькая», хотя настоящее имя девочки было Мая, Ганин был назначен наркомом юстиции Казахстана и увез с собой в жаркие края, где буйствовали песчаные ветры и все еще орудовали басмачи, новорожденную дочку, которую приходилось выкармливать из бутылочек.
Все это я знала из его писем. Письма из Казахстана были повестью о трудностях и ужасах насильственного становления советской власти в диком краю, о страшной и беспощадной борьбе с басмачами и о маленькой дочке, в которой постепенно пробуждалось человеческое сознание. А потом я получила письмо, где он писал, что устал от юриспруденции и она стала ему претить, и о том, что, как ему кажется, этап, когда надо было «бороться за революцию» и уничтожать ее врагов, миновал.
«Уничтожать, уничтожать и уничтожать…» – писал Ганин. Он устал уничтожать. Ему хочется заняться чем-нибудь другим. Что-нибудь «созидать». Стать рабочим у станка и вытачивать какие-нибудь детали, необходимые для советской индустрии… Cловом, Ганин решил сменить профессию. Прежде всего, ушел из Наркомюста СССР. Ушел с грандиозным скандалом, его чуть было не исключили из партии, но в конце концов он на своем настоял. Дело дошло до самого Сталина, и Сталин вызвал его «пред свои очи». Но, как говорится, нашла коса на камень. Ганин подтвердил свое окончательное решение – оставить юриспруденцию.
– Можете делать со мной что хотите, но к юридической работе я не вернусь!
Очевидно, даже Сталин понял, что его не переломишь, махнул рукой и, как ни странно, велел отпустить.
Ганичку и отпустили на все четыре стороны. Из наркомов он стал простым заводским разнорабочим, так как никакой технической специальности не имел. Норм он не выполнял – не было ни навыка, ни опыта. Через некоторое время перестало хватать денег… После фешенебельного кабинета и персональной машины с шофером ему не стало хватать пяти копеек на трамвай. А на руках была маленькая дочь.
Он все делал сам: отвозил девочку в ясли, привозил, кормил, купал, стирал. Это был цельный характер, Ганичка ничему не мог отдаваться наполовину – ни революции, ни ребенку. В конце концов он поступил учиться в Военную академию механизации и моторизации Красной армии. Ганин был самым старым курсантом в академии, но учился отлично, несмотря на все свалившиеся на него заботы о ребенке. Он также был единственным курсантом в звании майора (носил два ромба), которое ему присвоили после ухода из Наркомюста. Там у него было звание гораздо более высокое.
Вот как раз в это время произошла моя вторая встреча с Ганичкой. Мак только что окончил Академию художеств по архитектуре и по распределению должен был ехать в Башкирию – в Уфу. Естественно, мы уезжали всем семейством – с мамой, с моим новорожденным сыном Славкой, с собачкой Томочкой – умницей-пуделем, с целой кучей багажа, со всякими картинами, картонками, книгами и баулами. (Дама сдавала в багаж…)
В Ленинграде нас провожала вся шумная семья Селенковых.
Мы решили остановиться на пару дней в Москве, где у нас было много друзей и знакомых, но расположились все-таки у моего брата Ники, который в то время жил в Москве и имел небольшую квартирку около Белорусского вокзала. Туда Ганичка и приехал после занятий в академии вместе со своей Малькой, которой к тому времени было чуть больше годика.
Был уже вечер, и, конечно, мы не успели наговориться, и, так как Мак еще раньше уехал к каким-то своим друзьям, с которыми он обязательно хотел встретиться, я поехала проводить Ганичку, чтобы пообщаться хотя бы в трамвае. По дороге Малька заснула, и так, спящую, он ее бережно раздел и уложил в кроватку. Мы решили поговорить еще немного, ведь кто знает, когда еще придется встретиться!
Мы виделись всего лишь второй раз в жизни, но казалось, что знаем друг друга сто лет. Мы говорили, спорили и опять говорили без конца, и все было живо и интересно, и давно уже отзвенели последние трамваи, и уже не на чем было добираться домой… Так всю ночь и проговорили, только под самое утро, когда глаза уже начали слипаться, а Ганечке пора было уже собираться в академию (а еще завезти Мальку в ясли), я задремала на несколько минут. Макаша тоже задержался у друзей и приехал только утром. Мама с поджатыми губами молча бросала на нас осуждающие взгляды.
…Потом опять пошли годы переписки. Мы жили в Уфе и Белорецке. После Москвы и Ленинграда было скучновато – не хватало театров, музеев, библиотек, друзей, поэтому, как только кончился обязательный срок работы по «распределению», мы сразу вернулись в Ленинград. Я как раз в то время ждала второго ребенка. Потом Мак получил работу в Москве, и мы переехали туда – во «времянку» на строительной площадке будущего дома. В ней мама, дети и Мак прожили до самой войны…
После встречи проездом в Башкирию характер отношений с Ганичкой несколько изменился. В письмах его вдруг прорвались романтические ноты. Он почувствовал себя неуютно, одиноко, ему безумно захотелось иных отношений, иной ситуации… У него не осталось товарищей, все осудили его «дикий» поступок (как можно бросить юриспруденцию, в области которой он так «нужен и незаменим»?). Он был совершенно одинок. Не было любимой женщины, и ребенок, которому Ганин был беспредельно предан, все же не мог ее заменить.
Впечатлительный Ганичка влюбился в меня… С тем же пылом и с той же отдачей всей души, как и всегда и во всем. Но это было время, когда мои отношения с Маком еще ничего не омрачало и даже мысль о том, что мы можем расстаться, казалась нелепой и дикой. Мне было жаль Ганичку, но я ничем не могла ему помочь. Я только призывала его в письмах к благоразумию и старалась уверить, что рано или поздно он найдет другую женщину и полюбит ее…
Но Ганичка ничего не хотел слушать. Его письма – теперь чуть ли не ежедневные – и пылкие, и горестные, и нежные, и по-прежнему интересные, потому что он сам был человеком интересным, – меня волновали, и сама я ему писала тоже чуть не ежедневно, но мысли уйти от своей семьи у меня не возникало, и Ганичка ни на что не надеялся.
И все же мы встретились с ним в третий, последний раз, и эта встреча была самой продолжительной. Я работала в газетах, много разъезжала по стране, много видела, и «не вполне советские мысли» уже бродили в моей голове. Тут уже были и изгнание из «Артека», и другие литературные неприятности. Дома, в отношениях с Маком, у нас появились серьезные трещины, и у меня даже возникли мысли расстаться с ним.
К тому времени мы уже довольно давно жили в Москве, я иногда виделась с Ганичкой, и настало время, когда чуть-чуть не переехала к нему… Он испокон веку жил в комнате с крошечной кухонькой, безо всяких удобств, кроме водопровода, и единственной на целый этаж уборной, в старом многоквартирном доме на Вознесенской, недалеко от Арбатского рынка.
Когда я появлялась у него, Ганичка все хотел делать сам – варил пельмени, чистил картошку, кипятил чай, топил печку, не давая мне шевельнуть пальцем, чем, не понимая этого, меня угнетал и раздражал. Угнетал он и безапелляционностью своих суждений и взглядов. И так как, конечно, Ганичка был эрудированнее и образованнее меня, то и спорить с ним мне было очень трудно.