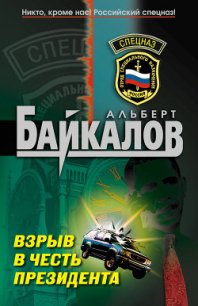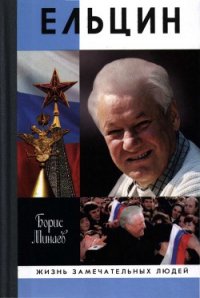Записки президента - Ельцин Борис Николаевич (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
Это, конечно, очень сложный разговор, но я хочу сказать одно: сегодняшнее общество строится не на пустом месте. И то, что происходит сегодня, никак не сравнишь с революцией семнадцатого года, когда небо перемешали с землёй. Общество просто ищет более удобный, более рациональный, более современный способ своего существования. Поэтому трагедийно-визгливые ноты, которые звучат порой в сегодняшней публицистике, я не очень приемлю. Мне они непонятны.
Мы уже живём, а не только готовимся жить. Из этого, наверное, и надо исходить: мы живём в нормальной стране. Просто с запутанной судьбой. С непростой наследственностью.
Дневник президента
5 июня 1993 года
В 9.45 я позвонил Коржакову и попросил принять усиленные меры для поддержания порядка в зале, где будет проходить открытие Конституционного совещания. Если начнутся выкрики, свистки, кто-то будет вести себя по-хулигански, пытаться сорвать совещание — немедленно выводить. Пусть дежурят человек десять в фойе. В президиуме — я и премьер-министр России Виктор Черномырдин.
За 10 минут до начала заседания появился председатель Конституционного суда Зорькин. Я знал, что ему отвели место в первом ряду, крайнее слева. Хасбулатову, Председателю Верховного Совета, — крайнее справа. Зорькин думал, что будет сидеть где-то в центре; постоял, покачал головой, потом смиренно уселся. Хасбулатов тоже постоял около своего места, подумал и все-таки сел. Рядом с ним никто не садился. Он поёрзал в кресле и как бы углубился в бумаги.
Моё выступление о конституции, о новом конституционном процессе — 40 минут. Этот доклад я тщательно готовил, причём серьёзно правил уже второй вариант (первый отверг категорически, сделав 15 серьёзных замечаний). Сидел всю ночь. Весь был в напряжении. И мои тяжёлые предчувствия подтвердились.
Как только я начал своё выступление, Хасбулатов написал записку и подозвал сотрудника, дежурившего рядом с трибуной. Тот взял записку и положил её, но не на стол, а в ящик. Хасбулатову это не понравилось, он стал усиленно делать знаки Черномырдину — предоставьте мне слово после Ельцина. Несмотря на утверждённый регламент. Сразу после того как я сел на своё место, он вскочил и рванулся к трибуне. И тут началось…
Зал, взвинченный, возбуждённый, повёл себя, мягко говоря, не слишком корректно. Начались захлопывания, свист. Запахло скандалом. Начало заседания было испорчено.
Но когда в перерыве журналисты задали мне вопрос: «Что вы думаете о первом дне?» — я сказал: «Совещание продолжает работать, несмотря на провокационную акцию спикера».
И все-таки Хасбулатов не тот: худой, тон какой-то просящий, глаза не сверкают, как обычно…
Депутат Слободкин начал кричать, бросаться к трибуне. Его вынуждены были буквально вынести из зала.
Я вдруг отчётливо понял: сегодня у меня появилось непреодолимое желание разогнать всю эту компанию.
Настроение было испорчено ещё и тем, что утром у меня в кабинете минут пять назойливо горела лампочка прямой связи — телефон Руцкого. Я не брал трубку, а лампочка не гасла. Пять минут. Ведь у Руцкого отключили прямую связь со мной, в чем дело? Оказывается, техник в выходной день протирал контакты спиртом, замкнул провода. Я задал вопрос: если он смог замкнуть провода, что он ещё может? Мне ответили: нет, больше ничего, только замкнуть провода.
Ладно, это все сейчас неважно. Главное — начало есть.
Дневник президента
5 мая 1993 года
Встреча с государственным секретарём США У.Кристофером.
Этому визиту предшествовали два телефонных звонка президента Клинтона.
Первый раз он поздравил с победой на референдуме. Во второй раз просил срочно обсудить с ним план военных санкций против Боснии.
Тогда я отреагировал: это так не решается. Вот приедет Кристофер в Москву (визит был запланирован), мы детально обсудим этот план, примем согласованное, обдуманное решение. А сейчас не дави на меня, пожалуйста, Билл. И он согласился.
Я ещё раз взвесил всю ситуацию. Стратегия Клинтона ясна: не хотите договариваться — будем стрелять. Но ведь план международного сообщества разрабатывался и утрясался целый год. Один ракетный удар — и с этим мирным планом будет покончено, может быть, навсегда. Мир в Югославии увидят уже только наши внуки.
Понятно, что военный план уже существует в детальном, продуманном виде. Там определена и наша роль. Что ж, возможно, на это придётся пойти — вводить силы ООН в разъединительные коридоры. Но пока говорить об этом рано. Пока ещё есть резерв — может быть, можно заставить их мирно договориться.
Дневник президента
7 мая 1993 года
Во Дворце культуры ГУВД, рядом с известной москвичам Бутырской тюрьмой, — прощание с погибшим первого мая сотрудником милиции Владимиром Толокнеевым. Перекрыта Новослободская улица. Солнечно, пусто, тихо — и грязновато, пыльно, как бывает в начале мая, когда только сходит снег.
Жутко это — прощаться с человеком.
Конечно, мы определим его семье солидный пенсион. Мы не оставим его ребёнка. Но…
Все это как-то не укладывается в голове. Первое мая, демонстрация. У нас, советских людей, это ассоциируется, ну, я не знаю, — с мороженым, с бутылкой пива, с шашлыком на природе, с кумачовыми знамёнами, разумеется… Но с кровью?
Страшные кадры по телевидению. Можно было бы предположить: ну, была давка, драка. Ну, в пылу борьбы парень подставился, ударили чем-то. Но ведь камера не умеет лгать. Человек, который кинулся за руль грузовика и дал резко газ, знал, что хочет убить милиционера. Это осознанное убийство.
И сразу возникают вопросы: почему эта цепочка милиционеров оказалась беззащитной, окружённой с двух сторон? Где были водомёты? Почему не применяли газ? Когда у нас появится хоть один ствол с пластиковыми пулями, чтобы при необходимости разгонять агрессивные толпы, как это должно быть?
Я стою у гроба Толокнеева и смотрю на его молодую вдову.
Я, президент, ничего не могу сделать…
И все эти вопросы с тысячекратной силой ударят меня пять месяцев спустя. И я снова почувствую это почти физическое удушье — удушье бессилия.
В ночные часы
У меня бессонница.
Встаю в два-три часа ночи, хожу по комнате, пью чай, не могу заснуть. Таблеток не люблю, да и не помогают.
В это время хочется поговорить с кем-нибудь. Но все спят.
В такие часы я «работаю над книгой», то есть просто бессистемно что-то обдумываю, вспоминаю, формулирую, иногда что-то записываю. Вспоминаешь разное, не всегда приятные вещи, словом, становишься самим собой, более открытым, искренним, чем днём, в кабинете, когда застегнут на все пуговицы.
О чем я вспоминаю?
Помню, однажды Наина заболела воспалением лёгких, заболела сильно, её даже отвезли в больницу — а дома грудная Танюшка. И я повёз её, крошечную, в Березники, к бабушке. Сидеть с ней дома было некому, а устроить в ясли в те времена было невозможно. Ехать на поезде сутки, даже больше, около тридцати часов.
Ну, закутал ребёнка в одеяло, сел в поезд.
Плацкартный вагон. Все смотрят круглыми глазами: куда мужик грудную везёт? Я смущённо объясняю.
Конечно, сначала дочка спала. Женщины мне помогают пелёнки менять, то да се… Но вот ночью, когда она захотела есть, для меня начался кошмар. Плачет, кричит, надрывается. Весь вагон проснулся. Я дрожу как в лихорадке. Все, конечно, за меня переживают. Начали искать какую-нибудь молодушку, у которой молоко есть. Обегали весь поезд. Но нет такой в поезде! Посоветовали в тряпочку завернуть хлеб и дать пососать. Я дрожащими руками беру хлеб, во что-то там заворачиваю. Стала сосать. А через пять минут опять кричит. Все поняла — обман это. И палец я ей давал, и водичку из ложки…