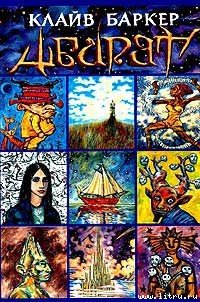Мой Олеша - Славин Лев Исаевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
Конечно, изобразить Олешу трудно. Дело не только в физических его чертах. Как передать текучесть его существования, противоречивость и переменчивость его души, смену психологических бликов, непрерывность движения жизни? Как уловить его музыкальный ключ, весь этот контрапункт ума, изящного лукавства, завораживающего полета мысли?
Я корю себя за то, что не записывал все свои разговоры с Олешей. Ведь занятия литературой – это только частный случай деятельности его мозга, который творил всегда.
Олеше был чужд прием снижения. Он любил Ильфа, дружил с ним, превосходно о нем написал:
«Ильф… первоклассная величина в развитии нашей культуры».
Но иногда он говорил с неудовольствием:
– Почему у них столько неприятных подробностей, какие-то кишечки, бородавки, уродства.
Олеша и сам был остер на язык и, когда хотел быть беспощадным, обрушивал на собеседника шквал эпитетов такой убийственной меткости, что тот находил спасение только в бегстве.
Но этот свой сатирический дар он и близко не подпускал к своим произведениям. Он считал этот жанр низменным. Его влекло на философские высоты и в поэтическом и в интеллектуальном смысле. Это был поэт-мыслитель.
А бешеное свое остроумие и зоркую бытовую наблюдательность он оставлял для житейской болтовни, для 478
товарищеского трепа, для множества забавных устных сценок, импровизированных застольных скетчей.
Так однажды появился зародыш словаря Эллочки Людоедки, впоследствии с таким блеском развитый Ильфом и Петровым, и некоторые другие интересные находки, которые Олеша легко раздаривал окружающим не потому, что он был таким уж щедрым, а потому, что не считал их ценностью. Низменный жанр… А он любил высоты. Но не все могли дышать их разреженным воздухом.
А для Олеши состояние некоторой приподнятости было естественным.
Случилось как-то, что Ольга Густавовна Олеша легла в больницу. Когда Юрий Карлович пришел навестить ее, врач отвел его в сторону и предупредил:
– Вы не волнуйтесь, пожалуйста, но ваша жена заговаривается. Мозговые явления… Это пройдет!
– А что же она говорит?
– Она говорит, что медсестры похожи на ангелов Гирляндайо…
– Конечно! – вскричал Олеша. – Светлые одежды, скользящая, как бы летающая походка, милосердное выражение лица. Оля права!
Это был любимый рассказ Олеши – о двух способах видеть, о двух мироощущениях.
Когда он рассказывал его, в его голосе как бы звучали фанфары.
Приподнятостью, даже театральностью своего поведения Олеша напрашивался на сравнение его со спектаклем. Человек-спектакль. Он был отгорожен от мира несколькими занавесами. Иногда раздвигался только один, иногда еще один, редко – все.
Я читал в рукописи интересные воспоминания Э. Казакевича об Олеше. Высоко расценивая его, Казакевич в то же время с некоторым осуждением отзывается об излишне снисходительном отношении Юрия Карловича к иным людям, снисхождения не заслуживающим.
Я знаю, что Олеша и Казакевич любили друг друга. Когда-то, за несколько лет до войны, Олеша дал один из примеров своей удивительной проницательности. Он предсказал, что Казакевич когда-нибудь будет боевым офицером. Каким образом Олеша разгадал в тихом еврейском юноше будущего лихого разведчики, в этом тайна зрения Олеши.
Но слова Э. Казакевича о якобы «снисходительности» Олеши означают только то, что Казакевич не побывал за самым последним занавесом в душе Олеши. Вот там Казакевич не посетовал бы на его снисходительность. Там он навидался бы молний и наслушался бы громов!
Есть мнение, что Достоевского с его визионерством, с его мучительными резекциями души, с его обостренным вниманием, направленным на самого себя, Олеша предпочитал всем другим художникам.
Это заблуждение основано на неполном знании Олеши.
«Это писатель, против которого можно испытывать злобу».
«…драма Раскольникова не вызывает того живого сострадания (подчеркнуто Олешей. – Л. С), которое вызывает драма Позднышева».
«В «Идиоте» есть сцена, в которой Настасья Филипповна бросает деньги в огонь… ситуация очень неубедительна… Поступок, обратный тому, который все ожидают, – вот излюбленное обстоятельство Достоевского… и видно, что оно отражает черту характера самого Достоевского… Черта эта антипатична… вызывает во мне раздражение».
Это написано Олешей в 1931 году.
И вот через два десятка лет ему предлагают сделать из «Идиота» пьесу.
Он записывает в своем дневнике с некоторым смущением:
«Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским (пишу инсценировку «Идиота»). Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему – люблю, не люблю?»
Что же делать? Притворяться? Но ведь своеобразное коварство искусства состоит в том, что в нем невозможно солгать. Ложь сразу видна: она плавает на поверхности.
Олеша выходит из положения тем, что он олешизируетДостоевского. Он снимает с него черты нереальности, случайности, немотивированности. Он делает из романа драму самолюбия.
Помните отзыв Олеши о диалоге Достоевского?
«Какое обилие сослагательных наклонений в диалоге Достоевского! Бы-бы-бы! Это бьющийся в судорогах диалог!»
Я встретил Олешу неподалеку от театра после спектакля. На лице его были следы того радостного возбуждения, которое всегда давал ему театр, аплодисменты, весь этот шум нарядной публичности.
Он взял меня под руку и сказал, насмешливо кивнув в сторону театра, осторожно озираясь и голосом заговорщика, хотя поблизости никого не было, – просто из любви к игре:
– Они думают, что это реплики Достоевского. Это мои реплики!
– Юра, – сказал я, остановившись, – но по отношению к Толстому вы этого не позволили бы себе?
– Конечно, нет, – сказал он серьезно.
Длинная прогулка. Зимний вечер. Крупные снежинки. Мы стоим на углу улицы Горького и Пушкинской площади и никак не можем расстаться. Говорим, говорим…
Он предлагает зайти в ресторан ВТО и выпить. Я отказываюсь и объявляю, что я «сгусток воли».
Он хохочет и кричит, что я «стакан рефлексии».
В это время мимо нас проходит X., высокий, в бобрах. Он демократически кивает нам:
– Привет!
И не останавливается.
Но по косому, быстрому и завистливому взгляду, который он бросает на нас, видно, что ему очень хочется остановиться, поболтать с нами, пойти куда-нибудь посидеть вместе. Но он спешит важничать в президиуме какого-нибудь заседания, и, вообще, наше общество это не то…
– Вы не правы, – задумчиво говорит Олеша.
Он умолкает. Он на секунду погружается в ту «страну внимания и воображения», о которой он писал в «Вишневой косточке».
– Вы не правы, – повторяет он. – Скорее, он постеснялся, оробел, побоялся, что мы будем не рады ему. Он стал пуглив. У него есть основания для этого, вы знаете. Мне жаль его. В нем есть подспудная честность. Как пороховой погреб. Если она взорвется, он погибнет.
Я вспомнил этот разговор, когда X. покончил с собой.
Откуда шла эта проницательность? (Вспомните предсказание о Казакевиче.)
В Олеше каким-то очень естественным образом соединились мудрость и детскость. Ему уже было около сорока лет, когда он написал:
«…до сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым».
И в другом месте, в «Заметках драматурга»:
«В людях не угасает детское».
Он сохранил это ощущение до конца. Михаил Пришвин когда-то писал о «детском богатстве народной души». Олеша был обладателем этого богатства. И от этой детскости возникало в нем как бы первовиденье жизни. И – как отдача этого – пронзительная свежесть образов.
Многие считали это художественной манерой Олеши. Конечно, тут есть и плод сознательного усилия. Но – как развитие того, что глубоко лежало в натуре Олеши. Его глаза действовали, как электронные микроскопы, они вскрывали внутреннюю структуру явления или человека. В самом банальном и в самом загадочном куске жизни он умел разглядеть его сокровенный смысл, ускользавший от других.