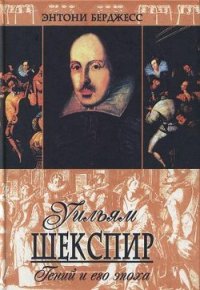Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира - Казавчинская Тамара Яковлевна
Питер Гринуэй. Что ж, у всех троих такая репутация, что выпячивать свою роль мне как-то не хочется. Но было бы наивно считать мой вклад мизерным: ведь мы позволили себе кое-какие вольности с текстом, придумали, например, двадцать четыре книги Просперо. Шекспир упоминает о книгах, но не уточняет, что они собой представляют, и уж тем более их не описывает. Изложу стратегию: пусть Гилгуд не только произносит текст Просперо, но и озвучивает реплики всех остальных персонажей, раз уж Просперо — кто-то вроде повелителя марионеток, вроде кукловода, собственно, именно таким кукловодом был Шекспир, сочинивший эту историю от начала до конца. Мы, так сказать, лишь расширили театральные подмостки — и то совсем чуть-чуть.
В фильме всемогущий Просперо — воплощение политического строя, при котором коренные жители острова лишены свободы слова и свободы мнений. Знакомая метафора, применимая к чему угодно: от британского империализма до Национального фонда искусств США [111]. На взгляд Гринуэя, ключ к разрешению этого конфликта — сострадание.
П. Г. Любопытно, что Гилгуд, играющий Шекспира, играющего Просперо, общается как с нами, зрителями, так и с другими персонажами с помощью слов, которые выводит на листе бумаги. Словно бы пишет всем служебные записки. Но первую служебную записку, адресованную самому Просперо, составляет Ариэль, его же слуга. И то, что к Просперо обращаются в форме, им же самим изобретенной, наконец-то заставляет его переродиться, сменить гнев на милость. И, конечно, тут-то все и воскресают: прощение вдыхает жизнь в персонажей — месть лишь усиливала их мертвенность. Думаю, в этом одна из примечательных черт «Бури», делающих ее абсолютно современной драмой, — историей про конец XX века, про конец тысячелетия. Это пьеса о концах и началах, о новом рождении, о том, как прощаешь своих врагов, чтобы начать с чистого листа; потому-то сегодня она особенно актуальна.
Это пьеса и, соответственно, фильм о знании. Сегодня все мы — фантастические всезнайки, в нашем распоряжении просто уйма познаний. Мы можем манипулировать ДНК и вмешиваться в развитие эмбриона, владеем секретом водородной бомбы, можем уничтожить всю планету, а значит, мы в некотором роде волшебники. Но как мы распоряжаемся этими знаниями? Как мы их применяем? Разумно или попусту, для сведения счетов или чтобы всех примирить, достичь всеобщего согласия? Есть некое обстоятельство, за которое я бы Шекспиру выговорил: в финале Просперо уничтожает свои книги. Мне так больно это видеть! Ведь если уж мы нечто знаем, то не можем снова стать невеждами. Не можем вытряхнуть из головы уже обретенные знания. У Шекспира сказано, что Просперо отправил свои книги в море. В фильме я изобразил это так: книги оказались горючими и, ударившись о воду, самовозгорелись, дабы напомнить нам обо всех тех случаях в XX веке, когда люди сжигали книги.
Книги Просперо — это не просто книги. В этих двадцати четырех томах содержатся все знания, необходимые Просперо для его колдовских занятий. Шекспир не утруждал себя даже мимолетным упоминанием о том, сколько именно было книг, но Гринуэй ухватился за эту мелкую, им же введенную деталь, а главную сюжетную линию отодвинул на периферию. Почему все-таки книг двадцать четыре?
П. Г. Первым делом мне в голову приходит довольно несерьезное объяснение. Мол, это такая отсылка к мысли Годара: «Кино — это правда двадцать четыре кадра в секунд)» [112]. Но такая трактовка хороша, если вы человек с причудами. А на самом деле Просперо, разумеется, живет до изобретения десятичной системы, когда считали дюжинами, не десятками. У нас в фильме две дюжины книг. Теоретически я мог бы придумать намного больше, но рассудил, что две дюжины — самое подходящее количество, чтобы отразить все типы знания и все типы книг, которые могли быть доступны Просперо, — и не только ему, но и нам. Богословский трактат олицетворяет весь мир богословия, бестиарий — весь мир естественной истории, одна порнографическая книга — весь мир эротики и т. д. Эти книги — сумма всего, что знали люди примерно в 1611 году, когда в Лондоне состоялась премьера пьесы.
Как-то странно думать, что человек может выстроить целый мир, основываясь всего лишь на двадцати четырех томах.
П. Г. Верно. Что ж, по большому счету вы можете сказать, что речь идет о двадцати четырех полках в библиотеке или даже о двадцати четырех библиотеках. Можно умножать и дальше. Факт тот, что книги Просперо завораживают, это волшебство чистой воды. Вообразите: книга о движении и танце и впрямь приплясывает на полке. Или книга об архитектуре: раскрой ее, и наружу вырвется Рим. Ну-у… как знать, возможно, лет через сто у нас действительно будут такие книги.
То, как Гринуэй применяет технологию Graphic Paintbox — настоящая революция в плане работы с изображением, временем и пространством. Я попросил Гринуэя рассказать об этом технологическом процессе и его потенциальных возможностях для творчества.
П. Г. Я начинал как живописец. Живопись — радикальное визуальное средство выражения мыслей. В XX веке живопись вырвалась вперед, далеко обогнав кинематограф. Кинематограф пока не добрался даже до кубизма. Итак, Graphic Paintbox — инструмент, который поможет пользоваться кинопленкой или видеокассетой так же, как художник пользуется традиционными художественными материалами. Теперь я могу рисовать на телеэкране бутафорский реквизит как бы авторучкой, карандашом или кистью, совсем как живописец. Для примера: Quantel Paintbox способен генерировать семнадцать миллионов оттенков, а человеческий глаз различает, кажется, лишь около тысячи. Итак, новые технологии могут в некотором роде расширить потенциальную цветовую гамму живописца.
Но главное — я могу манипулировать миром. Могу преображать вещи ровно так, как это делает живописец: что-то стираю, что-то замазываю. Могу перевернуть изображение вверх ногами или сделать из позитива негатив: все это меня очень вдохновляет. Великий русский режиссер Эйзенштейн утверждал, что высшая художественная форма в кино — мультипликация, так как в ней у режиссера абсолютная власть над всем. Я мечтаю: однажды мы добьемся, чтобы мультипликация перестала быть прерогативой детского кино, сумеем описать на языке мультипликации тонкие, сложные, запутанные ситуации жизни взрослых и вообще включить мультипликацию в наш общий лексикон. Хочется верить, что для меня «Книги Просперо» — первый шаг к масштабным кинематографическим изысканиям, к практическому применению всех этих удивительных новых технологий.
«Книги Просперо» — слово и зрелище
Интервью берет Марлин Роджерс (1991)
Много лет назад я написал сценарий «Джонсон и Джонс» о взаимоотношениях Бена Джонсона и Иниго Джонса [113] — они ставили «маски» для короля Иакова. За пятнадцать лет они создали и поставили около тридцати спектаклей, но, насколько я понимаю, беспрестанно ссорились. В профессиональной деятельности, да и в частной жизни, они были антагонистами и завидовали друг другу. Но я вот что думаю: по большому счету, Бена Джонсона интересовало слово, а Иниго Джонса — зрелище. И чтобы поставить спектакль, Джонсону и Джонсу поневоле приходилось согласовывать свои вкусы, чтобы создать нечто цельное, связное. Головоломная задача, над которой в некотором роде бьется и кинематограф… Занятно будет, если найдется кинематографист, способный объединить слово и зрелище [114].
Такой кинематографист есть — это сам Гринуэй. Союз слова и зрелища явлен в каждом кадре любого эпизода его картины «Книги Просперо». Этот шестой по счету игровой фильм Гринуэя — практически опера, если задуматься о том, как в нем используются музыка и песни, хореография и танец десятков статистов. На пышном фоне ренессансной архитектуры нагие духи образуют «живые картины», навеянные античной мифологией или западным искусством. Плотность, многослойность изображений — дополнительное украшение зрительного ряда. Гринуэй использует как обычные приемы кино, так и возможности телевидения высокой четкости, чтобы наслаивать изображения одно на другое: накладывать второй или третий кадр поверх первого или, наоборот, вставлять его в своеобразное окно посередине основной картинки. В то же самое время фильм глубоко литературен и в терминах логики — «самореферентен»: в нем то и дело появляются напоминания, что «БУРЯ» — литературный текст. Гринуэй исходит из того, что пьеса сочинена самим Просперо — и мы наблюдаем, как перо волшебника-драматурга «бороздит» пергамент, оставляя «в кильватере» строки, написанные каллиграфическим барочным почерком.