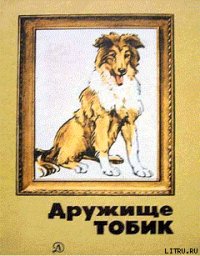Справедливость силы - Власов Юрий Петрович (бесплатные версии книг TXT) 📗
Из приведенного отрывка видно, куда подаются бывшие чемпионы…
Но тогда еще сам Джон Кеннеди в здравии и благополучии завершал предвыборную кампанию против Ричарда Никсона. И в канотье, светлом форменном костюме беззаботно вышагивал Рафэри Джонсон. Советская команда промаршировала раньше и встала по соседству с командой Венгрии. Мы смогли наблюдать шествие многих команд… Разве наблюдать? По шеренгам имена знаменитых спортсменов: "Вот, вот! Да смотри!.." Да, вот они, аристократы побед! Могу увидеть каждого!..
То было время, когда я в каждого готов был влюбиться. Мне казалось, все люди несут добро. И все наши шаги-для добра. А любить– наше назначение. Мы пришли в этот мир для любви и для открытых чувств. Откуда скука? Ненависть? Подозрения? В обман я не верил, не понимал…
Председатель Организационного комитета Игр Андреотти приветствует спортсменов. За ним у микрофона осанистый президент Международного олимпийского комитета Брендедж, поодаль вельможи от спорта разных стран. Брендедж, состарившийся на своем посту, весьма прозаичным тоном предоставляет слово президенту Италии Гронки.
– Объявляю XVII Олимпийские игры, знаменующие XVII Олимпиаду современной эры, открытыми!
После призыва фанфар появляются восемь итальянских спортсменов с белым олимпийским стягом. Грохочет артиллерийский салют. Хор исполняет олимпийский гимн – стяг уже на мачте. И тут же с факелом вбегает на стадион итальянский бегун Перис. Ударяют в колокола все церкви Рима. Шляпы, руки – все вскидывается в восторге к небу. В чаше бесцветно возгорается пламя. Что за восторг на трибунах – итальянские страсти! Слава! Слава!.. Наперекор реву стадиона – команда! И знаменосцы смыкаются в полукружье перед трибуной. Эта трибуна на поле. Мы прошли репетицию накануне и действуем дружно. Вот мы уже перед трибуной плечом к плечу. Все мы молоды и не разучены верить в обещания счастья. И мы верим во все, что его сулит,– это все на наших лицах. С трибуны звучат слова:
– От имени всех спортсменов я клянусь, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в подлинно спортивном духе, за честь своей страны и во славу спорта…
Смотрю в упор на Рафэри Джонсона, почти не обращая внимания на Адольфо Консолини, дающего клятву от имени всех. Адольфо старается придать голосу значительность и басовитую рокотность, но у него это не получается. Я по солдатской выучке стою "смирно", но вовсю стреляю глазами. Не знаю почему, но меня больше других интересовал тот, кому доверен флаг США. Стройный, даже скорее поджарый, Рафэри был невозмутим. Таким же бесстрастно-спокойным он выглядел и при прочих встречах. Говаривали, будто в Риме он стартует последний раз. Его ждут в Голливуде. Да, не предугадать ни ему, ни даже Голливуду, на какого рода съемки…
Рим. То были беспечностью овеянные Игры.
Игры, на которых не посылали пули снайперы, не страшились покушений и бомб. И нас оберегали лишь от неистовых болельщиков. Великих в победах называл каждый день. Не забывал никого, кто в божество возвел страсть к победе…
Рим. Он был распахнут всем.
Солнце дожигало дни итальянского лета. Оно обкорнало все тени. Какое-то солнечное безумие! Я впервые оказался в южных широтах. И это постоянство солнечных дней, немеркнущая голубизна, всякий раз после пробуждения встреча с солнцем воспринимались каким-то чудным подарком.
Наверное, причиной были молодость и классная спортивная форма – наивысшая физическая собранность. Тогда я опять, как в юности и детстве, пережил ощущение необыкновенного единства с миром, землей, солнцем и всем, что есть наше бытие…
Каждый год я жду голубую освобожденность февральских дней. После мглы, ненастий этот омут голубых дней! Будто свидание с жизнью, обещание новых дней, новой молодости чувств. Это схождение с жизнью, ее изначальным чистым смыслом, схождение всех строф, совершенств музыки, холстов, воскрешение ребячьего оцепенения перед открытием дней…
Чувства богаче, сложнее слов. Лишь музыка владеет всеми их оттенками. Я стыдился, скрывал чувства. Они мнились слабостями. Лишь один на один я открывал ту спрятанность чувств в музыке. Я даже подавлял эти порывы, считал, что они от непригодности к испытаниям. И уже много позже уразумел, что сила чувствования – это и есть мощь сопротивления: его искренность, неразменность, верность… и выносливость движения. Ведь убежденность – единственно от разума, убежденность без чувств, нищета чувства – это болезнь…
Рим.
Иногда Пиньятти, иногда Марсано – знаток судейства на помосте (он отличался принципиальностью; как-то на моих глазах чересчур патриотически настроенная публика едва не избила его, а он продолжал врубать красный свет на прекрасно отработанный жульнический швунг вместо жима) – составляли мне компанию. Мы пропускали стаканчик-другой легкого вина. До выступления столько дней! А все так необыкновенно!
Это Марсано шутил: "Париж – город для развлечений, а Рим – для глаз". И повторял любимый тост: "Долой всех недовольных!" И запало в память его суждение о поговорках. Я назвал поговорки народной мудростью. Марсано возразил: "Поговорки? Есть поговорки – опыт злых и жадных".
Улицы ворочались избытком людей. Прохожие спускались с тротуаров в запруженность автомобилей – на шутки и ворчание водителей. Шведы, англичане, французы, немцы, римляне, канадцы… и совсем редко русские… Большой праздник. Искренний.
А газеты – слова, снимки! Я развлекался размерами выпусков и ворохами новостей. Ведь всему верят! Раз напечатано – верят!.. Сочинение зла представляется мне какой-то испорченностью натуры, как и многое другое в профессии критика. А спорт? Ведь в срыве, нежданных поворотах судьбы – свои причины. В них смысл неудачи. Однако, если есть понимание, как оправдать зло? Ведь зло – это желание боли, это рассчитанная боль, это удар. Отнюдь не воспитание. Что значит воспитание – без учета существа события или явления?..
Я осознаю природу борьбы и критики. Но ведь должна быть и душа. Как явно это сочинение зла в прогляди газетных столбцов! И еще узость суждений! И все это поглощается читателями, становится правдой, травит истинную правду. Я диву давался, копаясь в газетах…
Я подружился с Рольфом Майером. Мы встречались в разных странах, бывал он и у меня в гостях. Майер выступал в полусредней весовой категории. Одно из его писем, относящееся к 1978 году, выходит за пределы личного и достойно внимания читателя.
"…С Пиньятти мы говорили о Вас. Я никогда не забуду те дни, которые провел на соревнованиях с Вами и Вашим тренером… Вся моя маленькая семья живет тяжелой атлетикой. Два моих сына серьезно тренируются. Младший – он приехал со мной в Афины – на моих глазах совершил не столь давно настоящий подвиг.
В 1968 году семи лет он перенес операцию на сердце, а в 1978 году, уже семнадцати лет, на IV Европейском чемпионате юниоров и на IX Всемирном, набрал в легчайшем весе сумму в двоеборье 200 кг, показав в рывке 92,5 (французский рекорд) и 112,5 в толчке (тоже французский рекорд). И это после более чем десяти хирургических вмешательств со дня рождения!.. Это заслуживает того, чтобы я поделился с Вами первым этой новостью…"
Я всегда считал силу великим, исцеляющим даром. И поныне поклоняюсь силе, радуюсь встрече с ней. Горжусь теми, кто умеет носить ее. Настоящая сила всегда смыкается с достоинством и самостоятельностью убеждений.