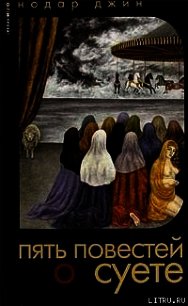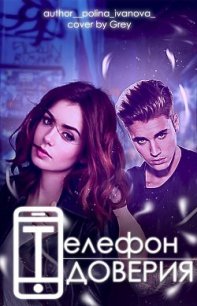Степень доверия (Повесть о Вере Фигнер) - Войнович Владимир Николаевич (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
В позапрошлом году Алексей Викторович останавливался в Петербурге, рассказывал, как все случилось. Взрослый мужчина, он чуть не плакал: «Поверьте, Екатерина Христофоровна, я очень любил Веру, да и сейчас, наверное, люблю, но я ничего не мог сделать».
Может, и не все было так, как рассказывал Алексей Викторович, но многое в его словах походило на правду. Взять хоть Лиду, хоть Веру — у обеих характер жесткий, отцовский. Покойный Николай Александрович тоже, бывало, если уж решит что-нибудь, так хоть стреляй в него, ни за что не отступится. Крутого нрава был человек. Но во многом оказался прав. Прав был, когда противился желанию старших дочерей обучаться в заграничных университетах.
На улице после спектакля казалось холодно. Ветер крутил под ногами поземку и швырял горсти снега в лицо. Она шла и думала о своих старших дочерях, в то время как две младшие обсуждали сегодняшний спектакль. Женя сказала, что модный баритон понравился ей не очень, то есть голос хороший, но при этом артистичности нет совсем, даже жесты иногда не соответствуют тому, что он поет.
В подъезде было темно: дворник экономил керосин. Поднимались ощупью. Возле самых дверей в синем свете, сочившемся из маленького оконца, возникла тоненькая фигурка.
— Кто это? — испуганно спросила Екатерина Христофоровна.
— Это я, мамочка, — из темноты ответила Вера.
У Екатерины Христофоровны подкосились ноги. Вот уж, что называется, не ожидала.
Она с трудом нашла замочную скважину, отворила дверь. Потом долго не могла зажечь лампу.
Вера совсем не изменилась. Она была такая же худенькая в этом легком заграничном пальтишке, которое годится, может быть, для климата Швейцарии, но не для нашей зимы. Она растерянно улыбалась. Сестры смотрели на нее с обожанием.
— Верочка, ты ведь на вакаты приехала? — спросила мать и посмотрела на дочь с надеждой.
— Нет, мамочка, — тихо сказала Вера, — я приехала насовсем.
— Насовсем? — Собственно говоря, этого нужно было ожидать. Она думала, что этим может кончиться, но отгоняла тревожные мысли, уговаривала себя: нет, Вера старше и серьезнее Лидиньки, она так легкомысленно не поступит.
— Ты, наверное, сдала экзамены раньше времени? Ведь там это, кажется, разрешают.
— Нет, мамочка, я не сдала экзаменов.
— Может быть, у тебя что-нибудь случилось?
— Нет, у меня ничего не случилось.
— Зачем же ты приехала?
Она посмотрела матери в глаза:
— Вы знаете, мамочка, зачем я приехала. Я приехала, потому что, так же как Лида, не могла больше быть в стороне, в то время как другие работают, отдают все силы народу. Кстати, как она себя чувствует?
— Плохо, — сорвалась мать, — В тюрьме сидит, ты же знаешь.
— Мамочка! — Вера обхватила руками голову матери. — Не упрекайте меня, ладно? Я все решила, я взрослая, и с этого пути не сверну. Мамочка, не сердитесь. Ну посмотрите мне в глаза, ну улыбнитесь, ну скажите же, что вы не сердитесь.
Мать уложила Веру в свою постель, а сама села в ногах и слушала. Младшие дочери спали в соседней комнате, свет газового уличного фонаря сочился сквозь тонкие занавески и расплывался неясным узором по серому потолку.
— Вы знаете, мамочка, если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то я ее добиваюсь. Во всяком случае, стараюсь добиться. И вот вышел этот правительственный указ. Мы тогда все думали: что делать? Оставаться в Цюрихе бессмысленно — потом наши дипломы все равно будут считаться в России недействительными. Но оставалась лазейка. В указе упоминался только Цюрих, поэтому мы решили разъехаться в другие города. И вот Лида, Соня Бардина, сестры Субботины, Варя Александрова отправились в Париж, а я с Бетей Каминской и обеими Любатович — в Берн. Я готова была отдать все силы служению народу, но менять свои планы в ближайшее время не собиралась. И я училась, мамочка, честно училась. Каждое утро лекции, потом надо идти в клинику, участвовать в обходах, присутствовать на операциях. У нас был такой замечательный хирург — профессор Кохер. Присутствовать на его операциях было наслаждением. Конечно, я уставала, и даже очень. Но находила время, чтобы заниматься и социальными науками. Но главная моя цель была окончить университет, защитить диссертацию и получить диплом врача. Когда подруги стали звать меня в Россию, я отказалась, понимаете, отказалась. Сестры Любатович и Бетя Каминская поехали, а я осталась. Вы не представляете, как трудно мне было отказаться. Ведь я клялась быть вместе с ними, а тут, когда пришлось отвечать за свои слова делом, и не пошла на это. Хотите знать почему? Я вам объясню. Во-первых, я очень хотела стать врачом. Во-вторых, я знала, что наше возвращение будет для вас большим ударом. В-третьих, я не могла не думать о противниках женского образования. Ведь наше возвращение для них такой козырь. Они скажут, что вот, дескать, позволили женщинам учиться, а что из этого вышло? Мне было стыдно, ужасно стыдно перед Лидой и всеми остальными, и все-таки я осталась и продолжала учиться. Я жила в отеле и почти ни с кем не общалась, кроме Доротеи Аптекман, была у нас такая студентка. Но на вакаты я ездила в Женеву. И уж там каких только людей, мамочка, я не встречала! Иванчин-Писарев, доктор Веймар, Клеменц, Кравчинский, Саблин, Морозов. Какие это замечательные люди, мамочка! Умные, смелые, благородные. Почти за каждым аресты, ссылки, побеги. Мы встречались в кафе Грессо. Грессо — это такой толстый швейцарский дядя, русских обожает и дает в долг. Народу у него всегда битком, пьют вино, спорят, кричат. Там был один полковник Фалецкий.
— Полковник и тоже нигилист? — спросила мать недоверчиво.
— Ах, мамочка, сейчас все нигилисты. Дело не в этом. Вы только послушайте. Этот полковник приехал в Швейцарию, чтобы организовать кассу для помощи эмигрантам. Но был при этом ужасный трус. По улице идет, все оглядывается, всюду ему мерещатся шпионы. А когда пришел срок возвращаться ему в Россию, он и вовсе перепугался. Бывало, встретишь его в кафе, он пьяненький, глаза вытаращит: «Вы знаете, говорит, Верочка, до меня дошли слухи, что правительство пронюхало о моем предприятии. Если меня арестуют, это будет ужасно». Я ему говорю: «Здесь много людей, которые подвергаются не меньшей опасности, чем вы, почему же они так за себя не боятся?» «Ах, Верочка, — говорит, — вы все молодые, у вас все впереди, а у меня две взрослые дочери. Вы себе представляете, полковник, тридцать пять лет непорочной службы — и вдруг революционер. Вас по молодости лет могут простить. А меня сотрут в порошок. И ведь самое обидное, что до пенсии осталось всего лишь четыре месяца». И вот однажды я решила подшутить над полковником и написала ему записку. Точно не помню, но содержание примерно такое: «Милостивый государь! Я не знаю вас, а вы не знаете меня, но я должна предупредить вас: вам грозит опасность. На русской границе вы будете задержаны, обысканы и арестованы. Приходите сегодня в восемь часов вечера на остров Жан-Жак Руссо. На скамейке под деревом вы увидите даму под зеленой вуалью; от нее узнаете все подробности». И подпись: «Благожелательная незнакомка». И что вы думаете? Приходит этот полковник в назначенное место, там его ждет таинственная незнакомка. Она говорит, что один ее знакомый, который служит в здешней полиции, получил точные сведения о том, что полковником интересуется русская полиция. Представляете, что с ним было! Когда я его увидела, на нем лица не было. «Что мне, Верочка, делать? В Россию ехать нельзя — арестуют. Неужели остаться навсегда в чужой стране без куска хлеба, навсегда забыть о семье?»
Вспомнив Фалецкого, Вера засмеялась и посмотрела на мать. Екатерина Христофоровна даже не улыбнулась.
— Эта таинственная незнакомка, — спросила мать, — была ты?
— Нет, это была Като, сестра литератора Николадзе.
— И тебе эта проделка кажется очень смешной?
— Мамочка, — смутилась Вера. — Но ведь это же была только шутка.
— Это была злая и нехорошая шутка, — упрямо повторила Екатерина Христофоровна.
— Я знаю, мамочка. Я ему во всем призналась и извинилась, но он такой смешной…