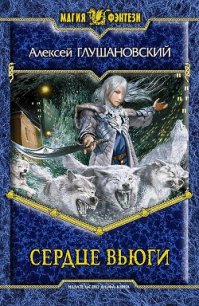Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. - Керсновская Евфросиния Антоновна
И все же пассивно ждать гибели — не в моем характере.
Я слушаю плавную, гладкую речь майора. Полное впечатление, что он читает главу, давно уже читанную и перечитанную:
— …Происки классового врага… затаенная злоба, прорывающаяся наружу… дворянское происхождение… аристократическое воспитание… преклонение перед Западом… попытки затормозить наши гигантские успехи… бессильная клевета… стремление воздействовать на слабых духом…
— Добавьте еще «выполнение директив из заграницы», «стремление ниспровергнуть существующий строй» и «возврат к капитализму». Это давно знакомая мне, старая-престарая пластинка, напетая еще двадцать лет тому назад Берией и двадцать раз мне надоевшая. Давайте говорить не по шаблону. Нет и не было у меня озлобленности против моей Родины, как нет и не было желания с кем-то свести счеты за все те испытания, через которые я прошла за последние двадцать лет. Только прежде я полагала, что я — жертва недоразумения, ошибки, несчастного стечения обстоятельств, одним словом — недоразумения. Мне казалось, что стоит мне распахнуть свою душу, показать, что нет в ней темных закоулков, и все станет ясным. Хотя если смотреть через черные очки, то белого цвета вообще не увидишь… Я взяла себя в руки с твердым намерением доказать, что у меня слово с делом не расходится. Для этого мне не пришлось делать усилия и ломать себя: честное отношение к труду и глубокое уважение к правде были привиты мне с детства, и им я останусь верна до смерти! Теперь я вижу, что для вас «бдительность» и «недоверие» — синонимы. И убеждать вас я ни в чем не собираюсь. Ведь самый глухой — это тот, кто не хочет слышать. А ваши уши так плотно занавешены профессиональными предрассудками, что никакой «вопль души» в них не проникнет, разве что вой побитой собаки. Не рассчитывайте! Скулить я не буду!
Сто раз повторенная ложь становится правдой
Если лейтенант меня «обстругал» на четвертом этаже, майор «сверлил» на третьем, то обдирать последнее живое мясо рашпилем предстояло полковнику на втором.
Странное дело, и логика, и жизненный опыт указывают на то, что добрых палачей и справедливых работников КГБ в природе не встречается. Больше того, привыкнув во всех подозревать что-то плохое, эта порода людей утрачивает ясность ума и неизбежно глупеет. Это прогрессирующий недуг. Следовательно, чем выше чин, тем ярче выражены эти особенности работников так называемых органов.
Однако в книгах и особенно в кинокартинах, наталкиваешься на совершенно иной типаж.
«Дело Румянцева» — одна из картин, в которой повеяло чистым воздухом в 1956 году: ни душных испарений застенков, ни слащаво-приторных ароматов. Шофер был хитро вовлечен в доставку контрабандного груза, сам того не зная. Против нее все очень хитро подстроено. За него — его безукоризненное прошлое и его товарищи по работе. Следователь исходит из предвзятого мнения: «Обвинен — значит, виноват». Полковник НКВД — седой, мудрый и, разумеется, с больным сердцем, верит в невиновность Румянцева. Он ищет виновных и находит их.
И вот исподволь в воображении запечатлевается образ такого полковника — седого, аскетически выглядящего. Он — сама мудрость, доброта и справедливость. За плечами у него долгая нелегкая жизнь и огромный опыт. Но есть и то, что превыше всего, — вера в человека, безграничная доброжелательность, терпение по отношению к тому, кто оступился, и такт по отношению к своим талантливым, но иногда не в меру горячим сотрудникам. Жаль, что в жизни такие не встречаются! Но, как любил говорить Вольтер: «Лгите, лгите! Хоть что-нибудь да останется!»
«Полковник? Ну, уж этот разберется, все поймет и растолкует своим переусердствовавшим подчиненным!» — в таком оптимистичном настроении я смело вошла в большой темноватый кабинет полковника Кошкина.
Первое, что я увидела, — это большой, во весь рост, портрет Дзержинского в шинели до самых пят, почему-то с кавалерийской саблей. Полковник, чем-то похожий на него, сидел напротив этого портрета за массивным письменным столом.
Я смело подошла, поклонилась и сразу обратилась к нему:
— Товарищ полковник, я вынуждена обратиться к вам с жалобой! Мне обидно, что товарищ майор…
— Смотрите, ей, оказывается, обидно! — скрипучим голосом, пофыркивая, как рассерженная кошка, прервал меня полковник. — Это ей-то еще может быть обидно!
Я остановилась резко, как говорится, на всем скаку. С глаз будто пелена спала, и я посмотрела совсем иным взглядом на этого полковника.
Нет, он не походил на тех мудрых, добрых и умных полковников из кинокартин! Передо мной сидел злобный старикашка с мутными глазами снулой рыбы и желтушным цветом лица. Мне показалось, что на меня опрокинули ушат холодной воды, но это сразу прояснило ситуацию и показало мне, с кем я имею дело.
И все встало на место.
— Та-ак… — протянула я. — Теперь еще скажите: «волк из Брянского леса тебе товарищ» — и все будет ясно.
И, не дожидаясь приглашения, я села. Сел и майор.
В лапах Кошкина
Умные люди говорили мне, и не раз, что глупо переть на рожон, еще глупее — сражаться с мельницами, но глупее всего — это метать бисер перед свиньями.
Дон Кихот мне всегда был дорог. Еще с тех пор, как я, шестилетняя девчонка, отколотила своего восьмилетнего братишку за то, что он хохотал, читая о его злоключениях. В наказание меня посадили на час в чулан под лестницей. Таким образом, еще чуть не полвека тому назад я впервые пострадала за свою верность Дон Кихоту. Могу ли я изменить тебе теперь, о Рыцарь Печального Образа?! Я испытывала странное ощущение, что-то вроде тоски и отчаяния, и щемящую боль от сознания, что это нанесет смертельный удар моей бедной далекой старушке, которая с гордостью и доверием ждет, что я на днях с честью завершу свою шахтерскую карьеру! Как бы ни скребли на душе кошки, я знала, что забрало у меня поднято, а карманы — полны бисера.
Итак, я сидела на мягком стуле у стола, перпендикулярного письменному столу полковника; майор — напротив; лейтенант у маленького столика в глубине комнаты, возле портрета Дзержинского.
Начало было обескураживающее: он спел всю ту же стократ надоевшую пластинку. Только диапазон был более мощный и бездушный. Я смотрела на полковника Кошкина, и у меня создалось и, чем дальше, тем больше усиливалось впечатление, что это актер, хорошо знающий свою роль, но глухой и только оттого не проваливающий всей пьесы, что он знает, где выдержать паузу, когда сказать свою реплику и что ему ответят. Как играют другие, его не интересует. В своей роли он не собьется.
И все же пришлось сбиться!
На все его стереотипные фразы я находила меткие возражения; необоснованные нападки парировала логичными рассуждениями, а предвзятые мнения опровергала примерами, фактами.
Завязалась своего рода дуэль, в которой, хотя противников было трое и нападали они одновременно и со всех сторон, преимущество (но не сила!) переходило явно на мою сторону.
И вот противники замерли «в третьей позиции», выражаясь языком фехтовальщиков, — позиции, дающей возможность и атаковать, и парировать.
— Вы — опытный спорщик и в совершенстве владеете диалектикой. Признайтесь: вы этому специально обучались?
— Да!
Всех троих будто электрическим током дернуло:
— Где?!
— В ветеринарной практике. Там я имела возможность заметить, что человек умеет мыслить здраво, делать выводы и четко их высказывать. Ну а скотина может лишь укусить, лягнуть или боднуть, в зависимости от своих ресурсов. Я — человек.
(Этот выпад рапирой, достойный д’Артаньяна или Атоса, отнюдь не улучшил моей позиции, но — пусть Бог меня простит! — иногда горсть бисера заменяет картечь…)
Последовавшее за этим молчание, хоть и не очень продолжительное, все же показалось слишком затянувшимся.
— А что вы скажете по поводу подобного рода выходки?
Полковник протянул руку, и лейтенант, как, очевидно, было заранее условлено, протянул ему лист, густо исписанный незнакомым мне почерком: