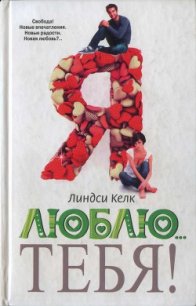Конь рыжий - Гуль Роман Борисович (книги онлайн полные версии txt) 📗
Уже ночь. Теперь мы так устали, что нам всё равно где спать. В чужой брошенной хате, вздув огонь, мы размещаемся при свете лампы. В переднем углу – киот полный икон, густо засиженных мухами. У стены раскрыт сундук. На полу набросаны бабьи кофты, юбки, на крышке сундука вряд наклеены лубочные картинки генералов отечественной войны.
Мы чудовищно голодны. Осветив печь, я лезу туда кочергой и достаю не совсем еще остывший горшок каши; из чулана Садовень несет всё, что осталось от убежавших хозяев: солонину, сметану, краюху хлеба, молоко, масло; поймали даже двух сонных кур и набив хату сброшенными шинелями, папахами, сапогами, винтовками, подсумками, после еды, мы усталые засыпаем на полу на соломе.
В этой хате было странно проснуться. В первую легковесную минуту сознания, кода нет еще грани между сном и явью, я никак не мог сообразить, где я и что со мной? Но помахивая нагайкой, на пороге стоит разбудивший нас вольнопер Бендо.
За чаем он живо рассказывает, как вступал в село с другого конца, как на пулемете закололи единственного неубежавшего пулеметчика, как капитан Померанцев бегал по селу с револьвером, расстреливая кого попало, всё только приговаривая: «дорого им моя жена обойдется!». У капитана в Киеве большевики, надругавшись, зверски убили жену и всю прошлую ночь капитан мстил кому-то; это он был во френче на площади, у церкви.
Вольнопер рассказывает, что в Лежанке расстреляли больше пятисот человек. Я хорошо знаю эти офицерские чувства; в них месть за самосуды, за убийства родных и друзей, за унижения, за уничтоженные, добытые кровью чины и ордена, за сорванные золотые погоны, за изуродованную жизнь, революцией пущенную под откос.
Умываясь у колодца ледяной водой, пахнущей особенной деревенской свежестью, я мысленно разговариваю с полковником Неженцевым. «Нет, полковник, – говорю я ему, – нет, это не то, армия офицеров-мстителей никогда не победит, в России миллионы Лежанок и всех их не расстрелять. Но если капитан Померанцев почти душевно болен и в своем отчаянии может быть даже по-своему понят, то как же от этих расстрелов не удержит армию генерал Корнилов? Ведь для победы нужно к себе перетянуть души именно этих крестьян? Или, может-быть в белом стане нельзя уже сдержать эти стихийные чувства мести, так же как в красном нельзя удержать стихию ненависти?» думаю я.
– А одного я совсем случайно на тот свет отправил, – слышу я голос вольнопера Бендо. И он опять рассказывает «новый случай». Но этих случаев чересчур много, и я, не слушая вольнопера, ухожу со двора посмотреть на Лежанку днем.
В поисках еды по хатам бродят наши солдаты и офицеры; где-то мычит голодная корова и исходит лаем собака, всё еще бессильно охраняющая хозяйское добро.
На церковной площади в разнообразных, неестественных, вывернутых позах лежат вчерашние убитые; они пролежали здесь эту росную ночь, сейчас утренний ветер, налетая, шевелит их одеждами, они лежат, как страшные, осклабившиеся деревянные куклы. Из улицы на пегой лошади выехала телега, в ней худая баба в поддевке и черном платке; подъехав к трупам баба слезла с телеги и пошла от убитого к убитому, рассматривая их; тех, кто лежал ничком, она легонько приподнимала, будто боясь сделать больно, и опять также осторожно опускала на траву; и вдруг возле одного упала на колени, потом на грудь убитого и, не обращая внимания ни на кого, словно на площади никого и не было, жалобно и отчаянно закричала: «Господи, Господи, голубчик ты мой…».
Я смотрел, как плача, утираясь, баба укладывала на телегу мертвое, непослушное тело; ей помочь подошла пожилая женщина из церковной ограды; и телега, поскрипывая, с дорогой кладью поехала в сельскую улицу. Поровнявшись с помогавшей женщиной, глянув в ее угрюмое лицо, я спросил:
– Что это, мужа нашла?
Она посмотрела на меня ненавидяще.
– Мужа, – ответила и пошла прочь. Не зная куда себя деть, я иду по Лежанке, чтобы встретить хоть какого-нибудь жителя, поговорить, узнать, почему же они на нас встали? Я вхожу в деревенскую бакалейную лавочку с вывеской в смешных кренделях. Дверь зазвонила колокольчиком. За обсаленным прилавком стоит благообразный старичек, на носу очки в железной оправе, подвязанной бичевочкой. Седая бородка и желтое печеное лицо придают старику сходство с Николаем Чудотворцем. Покупая спички и подсолнухи, я стараюсь со старичком разговориться.
– Ну, зачем же нас огнем-то встретили? Ведь пропустили бы и ничего бы и не было, – говорю я покачивающему седой головой вздыхающему старику.
– Знамо, ничего бы не было. А вот поди-ж ты. Это всё пришлые виноваты, Дербентский полк, да артиллеристы. Сколько тут митингов было, старики говорят: пропустите, ребята, беду накликаете, а они свое: уничтожим буржуев, не пропустим; их, говорят, мало, мы знаем, это Корнилов с киргизами да с беглыми буржуями из Питербурха едет. Ну, вот и смутили, всех наблизовали, выгнали окопы рыть, винтовки пораздали. А как увидели ваших-то, ваши как пошли на село, они бежать. Артиллеристы первые на лошадей да ходу, все бежат, бабы, дети, а куда бежать-то? Ваши тут как тут и настигли, – и осторожно сняв подвязанные бичевкой очки, старичек глубоко вздохнул и после вздоха добавил, – а народу-то, народу что побили, невинных сколько, а из-за чего всё, а? спроси ты поди?
Я вышел из лавки. На площади, с которой уж увезли трупы, на белой лошади джигитует текинец в малиновой черкеске, хлестко развевающейся на-ветру; он то подбрасывает папаху, ловя ее, то спрыгивает и впрыгивает наскаку, а то, привесившись под брюхом лошади, скачет, держась за подпруги; и толпа текинцев одобрительно кричит наезднику на гортанном родном языке.
В нашу хату откуда-то принесли грамофон, он хрипит и кашляет вальсом «Сон жизни» и, отдохнув от усталости степных походов, кто-то кричит:
– Сестры, valse gйnйrale , вальс!
И шумя походными сапогами по хате офицеры кружатся с Таней и Варей, одетыми в солдатские сапоги и шинели.
VII
Куда ж мы идем по этой цветущей кубанской степи?
Точно мы, рядовые бойцы, не знаем. Говорят, Корнилов ведет нас на кубанскую столицу Екатеринодар. Наше продвижение по Кубани трудно, почти каждую станицу берем с бою. Из Екатеринодара большевики бросили на нас крупные силы во главе с главнокомандующим войсками Северного Кавказа, бывшим солдатом Сорокиным; передают, будто бы генерал Алексеев полушутливо сказал, что после Людендорфа он боится больше всего Сорокина.
Сорокин нам сильно сопротивляется, но всё-таки мы тесним красных. Станицы Березанскую и Журавскую взяли с бою, на станцию Выселки ворвались на плечах большевиков. Своих раненых мы везем в обозе, а убитые остались в весенних зеленых степях. Под Березанской закопали мы нашего ротного, князя Чичуа, убитого пулей в сердце. Он лежал возле цепи на зеленой траве, как живой, красивый, немного бледный, далеко откинув левую руку. С трудом я и Садовень положили его тело поперек седла и я повел коня к взятой с бою станице.
Беспрестанными боями мы измотаны телесно, разбиты душевно, но мы знаем, отдыха в степях у нас быть не может. Как бродяги, белые перекати-поле, мы живем в просторах степей, идя от станицы к станице, с винтовками в руках.
Из Выселок ночевать мы свернули на хутор Малеваный и, переспав там, ясным утром выступаем дальше на Кореновскую, где, наконец, говорят, будет отдых. Мы пылим по степи, думать не о чем, мы умеем думать только о двух вещах; поесть бы, поспать бы. Уж видны далекие деревянные крыши Кореновской, но к подполковнику Неженцеву подъехали какие-то конные и всех сразу облетает: Кореновская занята большевиками, ее надо брать с боя.
И опять рвутся их снаряды, клокоча уходят наши; сзади в цепи кто-то застонал и падает; Таня и Варя бросились к нему, поднимают, поддерживая ведут раненого; хочется узнать: кто? Я не вижу; кажется Коля Сомов.
Мы уже залегли на поле и наскоро окапываемся, над нами почти над самой землей с резким визгом рвутся шрапнели; они словно придавливают нас к земле, застилая белым дымом, медленно расходящимся и поднимающимся в небо, но какое оно, это небо, нам не видно.